Дети в аду гражданской войны. При большевиках, как они себя называли, нам, русским, хорошо не будет - Русский Интерес. Бог был с детьми. «Кто снимет с меня кровь? Мне страшно по ночам»
«Помню Владимирский собор в Киеве и в нем тридцать гробов, и каждый гроб был занят или гимназистом, или юнкером. Помню крик дамы в том же соборе, когда она в кровавой каше мяса и костей по случайно найденному ею крестику узнала сына».
Это из книги «Дети эмиграции», изданной в Праге в 1925 году. Педагогическим бюро по делам средней и низшей русской школы за границей. По форме — сборник ученических сочинений. По сути — страшная летопись «окаянных дней» России.
Читая эту невыдуманную, лишенную пафоса книгу и испытывая отчаяние, я вспомнил отрывок из «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, имеющий, на мой взгляд, прямое отношение к последующему рассказу.
«Они приближались и были уже близко. Доктор хорошо их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из невоенных слоев столичного общества и люди более пожилые, мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты, первокурсники и гимназисты-восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.
Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными, виденными, знакомыми. Они напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься, это были их младшие братья?..
Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством, ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным, редким строем, выпрямившись во весь рост, превосходя выправкой кадровых гвардейцев, и, бравируя опасностью, не прибегали к перебежке и залеганию на поле… Пули партизан почти поголовно выкашивали их.
…Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий».
Юнкера, обороняющие входы в Кремль. 1917г.
6500 страниц
Все началось 23 декабря 1923 года в русской гимназии в чешском городе Моравска-Тршебова. Это было знаменитое учебное заведение, крупнейшее среди российских эмигрантских школ. В канун католического Рождества совершенно неожиданно для учащихся и педагогов были отменены два смежных урока. Изменение в школьное расписание внес сам директор гимназии А.П. Петров.
Детям было предложено: в свободной форме, не ограничиваясь в размерах, без учительской опеки написать сочинение на тему «Мои воспоминания с 1917 года по день поступления в гимназию». Потом эти «человеческие документы» были изданы отдельной книжкой.
«Я не знаю, что может сравниться с детскими сочинениями в их простодушных описаниях событий последнего времени, — писал в предисловии к изданию председатель Пражского педагогического бюро профессор В.В. Зеньковский. — Не знаю, где отразились эти события глубже и ярче, чем в кратких, порой неумелых, но всегда правдивых и непосредственных записях детей? Погружаясь в эти записи, мы прикасаемся к самой жизни, как бы схваченной в ряде снимков, мы глядим во всю ея жуткую глубину…»
Пражские педагоги предложили подобную тему слушателям русских эмигрантских гимназий в других странах. Откликнулись многие: в Турции, Болгарии, Югославии и самой Чехословакии. К 1 марта 1925 года в Прагу были доставлены 2400 сочинений. 6500 страниц, исписанных ученической рукой.
В большинстве родители детей — представители средней городской интеллигенции. Географически — почти вся Россия. Отправные точки эмиграции — Одесса, Новороссийск, Крым, Архангельск, Владивосток. Многие дети покинули Родину с учебными заведениями без родителей. Меньшая часть эмигрировала после Гражданской войны, пережив голод 1921 года. Вчитайтесь в эти строки: «…Там начали есть человеческое мясо, и часто бывали случаи, что на улицах устраивали капканы, ловили людей, делали из них кушанья и продавали на базарах». Выведено рукой ребенка.
«Красные банты, растерзанный вид…»
Отдельно — о сочинениях кадетов. Их свидетельства бесконечны, их исповеди глубоко трагичны. Кадетские корпуса находились далеко не во всех даже губернских центрах. Родители привозили детей на учебу издалека. Взгляните на события того времени из окон кадетского училища: 1917 год, отречение Государя, недоумение, непонимание происходящего, Октябрьский переворот, обстрел корпуса из орудий и взятие его штурмом, нежелание детей снять погоны… Расстрелы, пытки, казни, невзирая на возраст…
«Встретил меня полковник, и я отдал ему честь. Он сказал: «Я старый полковник, был храбрый, говорю Вам по совести, чтобы Вы сняли погоны, не рискуйте своей жизнью… кадеты нужны».
Первые воспоминания детей о революции. Февраль…
«Директор вынул из кармана телеграмму и начал медленно читать. Наступила гробовая тишина: Николай Второй отрекся от престола», — чуть слышно прочитал он. И тут не выдержал старик, слезы, одна за другой, слезы солдата, покатились из его глаз… Что теперь будет? Разошлись по классам, сели за парты, тихо, чинно. Было такое впечатление, что в доме покойник. В наших детских головках никак не могла совместиться мысль, что у нас теперь не будет Государя».
И еще: «После отречения Государя вся моя дальнейшая жизнь показалась мне серой и бесцельной…»
Сильно сомневаюсь, что наши правители, архитекторы нашего счастья, бывшие и настоящие, дождутся подобных признаний от наших детей.
Чтобы мы поняли, чего мы лишились, приведу еще один отрывок:
«Нас заставили присягать Временному правительству, но я отказался. Был целый скандал. Меня спросили, отчего я не хочу присягать. Я ответил, что я присягал Государю, которого я знал, а теперь меня заставляют присягать людям, которых я не знаю. Он (директор) прочел мне нотацию, пожал руку и сказал: «Я Вас уважаю».
Октябрь. Первые дни…
«Солдаты, тонувшие в цистернах со спиртом, митинги, семечки, красные банты, растерзанный вид».
«Вечером большевики поставили против нашего корпуса орудия и начали обстреливать училище. Наше отделение собралось в классе, мы отгородили дальний угол классными досками, думая, что они нас защитят. Чтобы время быстрее шло, мы рассказывали различные истории, все старались казаться спокойными. Некоторым это не удавалось, и они, спрятавшись по углам, чтобы никто не видел, плакали».
«Когда нас привезли в крепость и поставили в ряд для присяги большевикам, подошедший ко мне матрос спросил, сколько мне лет? Я сказал: девять, на что он выругался по-матросски и ударил меня своим кулаком в лицо. Что было потом, я не помню, т.к. после удара я лишился чувств. Очнулся я тогда, когда юнкера выходили из ворот. Я растерялся и хотел заплакать. На том месте, где стояли юнкера, лежали убитые, и какой-то рабочий стаскивал сапоги. Я без оглядки бросился бежать к воротам, где меня еще в спину ударили прикладом».
Альбатросы революции… Часто они вторгаются в воспоминания детей-эмигрантов, не вызывая в их душах ничего, кроме ужаса, ненависти и презрения.
«Я начинала чувствовать ненависть к большевикам, а особенно к матросам, этим наглым лицам с открытыми шеями и звериным взглядом».
«Это были гады, пропитанные кровью, которые ничего не знали человеческого».
Истязали и казнили детей:
«По каналам вылавливали посиневшие и распухшие маленькие трупы кадетов».
«Игрушки были навсегда забыты»
Вчитываюсь в анонимные строчки сочинений, а вижу скорбные складки на детских лицах:
«Чувствовать, что у себя на родине ты чужой, — это хуже всего на свете».
Тяжелые и трогательные сцены расставания детей с родителями. Больше — с мамами (отцы воевали). В детских признаниях слышится «Прощание славянки».
«Помню также в самую последнюю минуту, уже со всех ног бросившись бежать к корпусу, я вдруг вернулся и отдал матери часы-браслет, оставшиеся мне от отца. Еще несколько раз поцеловав мать, я побежал к помещению, чтобы где-нибудь в уголке пережить свое горе».
Несправедлив и долог был этот путь. Псковский корпус уходил через Казань, Омск, Владивосток. А потом — Шанхай, Цейлон, Порт-Саид… Московский корпус эвакуировался через Полтаву, Владикавказ, Мцхети, Батум, Феодосию. И псковичей, и москвичей приютила Югославия. Неприкаянные скитальцы, маленькие перелетные птицы. На юг…
Донской корпус отступал из Новочеркасска через Кущевку в Новороссийск.
«Большевики были в 40 верстах. Мы, младшие кадеты, были возбуждены. У многих был замысел бежать на фронт. День 22 декабря склонялся к вечеру, когда нам объявили, что в 8 часов корпус выступает из города. За полчаса до отхода был отслужен напутственный молебен. И сейчас я ярко представляю себе нашу маленькую, уютную кадетскую церковь, в полумраке которой в последний раз молятся кадеты. После молебна была подана команда выстроиться в сотни, где сотенный командир сказал несколько слов… У командира, который смотрел на кадетов-мальчиков, стоявших с понуренными головами, блеснули на глазах слезы. Видно было, что он искренно жалел нас. Наконец мы, перекрестившись на кадетскую сотенную икону, подобравши свои сумочки, тихо стали выходить из корпуса. Это шествие напоминало похоронную процессию. Все молчали…»
«Особенно жаль было смотреть на малышей, среди которых попадались 8-ми и 9-ти лет… Завернутые в огромные шинели, с натертыми до крови ногами… Кадеты помогали друг другу и шли, шли и шли».
А за ними шла война, катилось «Красное колесо»…
«Из России, как из дырявой бочки, все более и более приливало красных. Помню выкрик одной старухи по их адресу: «У, проклятые! Ишь понацепили красного тряпья, так и Россию кровью зальете, как себя бантами разукрасили». И оно так и вышло». «Россию посетил голод, мор и болезни, она сделалась худою, бедною, оборванною нищенкою, и многие покинули ее со слезами на глазах. Бежали от нея и богатые, и бедные».
Читая сочинения мальчиков и девочек, не могу избавиться от ощущения, что морок революции преследовал их потом всю жизнь. И что надо пережить, чтобы подняться до такого вот обобщения:
«Человечество не понимает, может быть, но может, может быть, не хочет понять кровавую драму, разыгранную на родине. Если бы оно перенесло хоть частицу того, что переиспытал и перечувствовал каждый русский, то на стоны, на призывы тех, кто остался в тисках палачей, ответило бы дружным криком против нечеловеческих страданий несчастных людей».
И в подтверждение этих слов такая цитата:
«Меня и мать расстреляли, но к счастью, и я, и мама оказались только раненными…»
Судьбы детей… Похожих нет, только война была на всех одна. И беда тоже. Искал в этих сочинениях и не нашел: беззаботности, смеха, упоминаний об играх и игрушках, воспоминаний о первой любви — всего, что делает человека человеком и в юном возрасте. Кровь, смерть, штык, пуля, застенки, пытки, вражда, ярость… Этого — в избытке.
«Началась война, и игрушки были навсегда забыты, навсегда, потому что я никогда уже больше не брал их в руки».
Скитания, голод, обыски, аресты…
«И потянулись страшные памятные дни. По ночам, лежа в постели, жутко прислушиваешься в тишине. Вот слышен шум автомобиля. И сердце сжимается и бьется, как пойманная птичка. Этот автомобиль несет смерть… Так погиб дядя, так погибло много из моих родных и знакомых». Спросите себя: когда «с нами случился» 1937 год? Ответ есть: в 1917-м… «Матросы озверели и мучили ужасно офицеров. Я сам был свидетелем одного расстрела: привели трех мичманов, одного из них убили наповал, другому матрос выстрелил в лицо, тот остался без глаза и умолял добить, но матрос только смеялся и изредка колол его в живот. Третьему распороли живот и мучили, пока он не умер».
Или вот это:
«Несколько большевиков избивали офицера чем попало: один колол его штыком, другой бил ружьем, третий поленом. Наконец офицер упал в изнеможении, и они, разъярившись как звери при виде крови, начали его топтать ногами».
«Помню жестокую расправу большевиков с офицерами Варнавинского полка в Новороссийске. Ночью офицерам привязали к ногам ядра и бросили с пристани в воду. Через некоторое время трупы начали всплывать и выбрасываться волнами на берег. После этого долгое время никто не покупал рыбы, так как стали в ней попадаться пальцы трупов».
Еще:
«Я быстро подбежал к окну и увидел, как разъяренная толпа избивала старого полковника. Она сорвала с него погоны, кокарду и плевала в лицо. Я не мог больше смотреть на эти зверские лица. Через несколько часов долгого и мучительного ожидания я подошел к окну и увидел такую страшную картину, которую не забуду до смерти: этот старик-полковник лежал изрубленный на части. Таких много я видел случаев, но не в состоянии их описывать».
«Расстрелы у нас были в неделю три раза: в четверг, субботу и воскресенье. И утром, когда мы шли на базар продавать вещи, видели огромную полосу крови на мостовой, которую лизали собаки».
«Кто снимет с меня кровь? Мне страшно по ночам»
Если мы когда-нибудь все-таки будем судить идеологию классового убийства, психологию насилия и партию палачей, то сочинения детей-эмигрантов должны быть на этом суде неопровержимым доказательством и беспощадным приговором. Уже тогда в детскую жизнь вторгались неведомые слова. Одно из них стало символом целой эпохи — «чрезвычайка».
«Дом доктора реквизировали под чрезвычайную комиссию, где расстреливали, а чтобы расстрелов не было слышно, играла музыка».
«Добровольцы забрали Киев, и дедушка со мной пошел в чрезвычайку. Там был вырыт колодезь для крови, на стенах висели волосы…»
«Большевики ушли, в город вступили поляки. Начались раскопки. На другой день я пошел в чека. Она занимала дом и сад. Все дорожки сада были открыты, и там лежали обрезанные уши, скальпы, носы и другие части тела. На русском кладбище откопали трупы со связанными проволокой руками».
А вот этот отрывок я приведу полностью:
«Пришли чекисты и стали выволакивать со двора ужасные посинелые трупы и на глазах у всех прохожих разрубать их на части, потом лопатами, как сор, бросать на воз, и весь этот мусор людских тел, эти окровавленные куски мяса были увезены равнодушными китайцами. Впечатление было потрясающее, из телеги сочилась кровь, сквозь доски глядели два застывших глаза отрубленной головы, из другой дыры торчала женская рука и при каждом толчке начинала махать кистью. На дворе после этой операции остались кусочки кожи, кровь, косточки. И все это какая-то женщина очень спокойно, взяв метлу, смела в одну кучу и унесла».
Если есть силы, читайте дальше.
«Офицеры устроили в Ставрополе восстание, но оно было открыто, всех ожидала несомненная смерть, казни производили в юнкерском училище: вырывали ногти, отрезали уши, вырезали на коже погоны и лампасы».
Дети и война и дети на войне — самое нелепое, самое горестное сочетание несочетаемого. Ожидание смерти, гибель родных — удар в сердце. Но в школьных сочинениях есть признания пострашнее. Это признания детей-убийц.
«В августе 1919 года нам попались комиссары. Отряд наш на три четверти состоял из кадетов, студентов и гимназистов… Мы все стыдились идти расстреливать. Тогда наш командир бросил жребий, и мне из числа двенадцати выпало быть убийцей. Да, я участвовал в расстреле четырех комиссаров, а когда один недобитый стал мучиться, я выстрелил ему из карабина в висок. Помню еще, что вложил ему в рану палец и понюхал мозг. Потом меня мучили кошмары и чудилась кровь. Я навеки стал нервным, мне в темноте мерещатся глаза моего комиссара, а ведь прошло уже 4 года. Забылось многое… Но кто снимет с меня кровь? Мне страшно иногда по ночам».
У этого жуткого повествования есть свое начало, не оправдательное, но многое объясняющее.
«Мы получили известие, что отец убит большевиками в одном из боев. Привезли труп отца. В этот же день большевики заняли город. Несколько пьяных матросов, с ног до головы увешанных оружием, бомбами и перевитых пулеметными лентами, ворвались в нашу квартиру с громкими криками и бранью: начался обыск. Все трещало, хрустело, звенело. Прижавшись к матери, дрожа всем телом, я с ужасом смотрел на пьяные, жестокие, злобные лица матросов. Даже иконы срывали эти богохульники, били их прикладами, топтали ногами. Добрались до комнаты, где лежало тело отца, окружили гроб, стали издеваться над телом. Мать и сестра стали умолять их не трогать мертвого. Но их мольбы еще более раздражали негодяев. Один из них ударил мать штыком в грудь, а сестру тут же расстреляли. Мой двоюродный брат, приехавший к нам в гости, попал на штык матроса. Матрос подбрасывал брата в воздух, как мячик, и ловил на штык… Матросы стали уходить. Один обернулся и, увидев меня, закричал: «А вот еще один!» Последовал удар прикладом по голове, и я упал без чувств. Очнувшись, услыхал чьи-то глухие стоны. Стонала мать. Через некоторое время она скончалась. Я почувствовал, что я остался один. Все близкое, родное, дорогое так безжалостно отобрали у меня. Хотелось плакать, но я не мог».
Еще один случай, вложивший винтовку в руки подростка.
«Арестовали отца… Нам не дали даже попрощаться, сказав: «На том свете увидитесь». Пришли немцы… Отец вернулся. Опять большевики… Отец вновь попал в чрезвычайку, где заболел. Чтобы отец лег в больницу при тюрьме, нужно было сесть кому-нибудь из семьи на его место. Пришлось идти мне. Просидел две с половиной недели. За этот срок меня 4 раза пороли шомполами за то, что я не хотел называть Лейбу Троцкого благодетелем земли русской и не хотел отказаться от своего отца…
В полночь за нами пришли красноармейцы, с которыми была одна женщина. Построив по росту, они отвели нас в подвал. Раздев нас догола (среди нас были и женщины), они отобрали несколько офицеров и поставили к стенке. Прогремели выстрелы, раздались стоны. После чего женщина-комиссар передала женщин красноармейцам для потехи у нас же на глазах…»
Этот же мальчик написал в сочинении: «Я решил поступить в добровольческий отряд и поступил… С трепетом прижимал к плечу винтовку и радовался, когда видел, как «борец за свободу» со стоном, который мне казался музыкой, испускает дух».
Любовь и вера в Россию — это все наше богатство
В центре Москвы, в сердце страны лежит мумия человека, которому мы обязаны столькими бедами. «Народ, забывающий свое прошлое, обречен пережить его вновь…» Это о нас.
Поэтому давайте вспомним детей эмиграции и задумаемся над тем, какие просеки прорублены в генофонде нации.
«Утешаю себя мыслью, что когда-нибудь отомщу за Россию и за Государя, и за русских, и за мать, и за все, что мне так дорого. Как они глупы. Они хотели вырвать из людей то, что было в крови, в сердце».
«…Пришел солдат, и нас куда-то повели. На вопрос, что с нами сделают, он, гладя меня по голове, ответил: «Расстреляют». Нас привели во двор, где стояло несколько китайцев с ружьями. Я не чувствовала страха. Я видела маму, которая шептала: «Россия, Россия…», и папу, сжимавшего мамину руку».
«У меня ничего нет собственного, кроме сознания, что я русский человек. Любовь и вера в Россию — это все наше богатство. Если и это потеряем, то жизнь для нас будет бесцельной».
…2400 детей и подростков, 6500 страниц свидетельских показаний о преступлениях против человечности. «Репрезентативная выборка» Истории, будет и ее приговор.
Виталий Ярошевский
ЧАСТЬ 3
.Сравнительный анализ систем социализации
в США, России и Франции
В этой статье я привожу некоторые самые существенные различия в системах
социализации детей эмигрантов из России, исходя из того, что основными
агентами социализации являются школа, сверстники и, конечно, семья.
А) Школа
Советская традиция образования предполагала полную узурпацию функций образования
и воспитания, освободив максимально наших родителей от заботы о детях для
трудовых подвигов. Они должны были только кормить и одевать своих детей.
У нас была самая развитая и доступная система послешкольного воспитания
и образования. Мамы могли отдать своих детей в спортивные клубы, драмкружки,
танцевальные залы и изостудии. Кроме того, дома своих внуков ждали бабушки.
Проведя исследования в Европе и США, я могу с уверенностью сказать, что
наши дети были самыми опекаемыми и обучаемыми в мире.
Во Франции школы берут на себя ответственность за качество преподавания,
но все, что касается воспитания личности ребенка, эта ответственность традиционно
отдается родителям. Французские папы и мамы должны привезти ребенка в школу,
забрать из школы, организовать его досуг. Дурным тоном считается, если
дети гуляют на улице без присмотра родителей.
Но тяжелей всего приходится американским родителям. Если их дети плохо
учатся, то это – их вина и недосмотр. Более того, система общественного
образования устроена так, что без активной инициативы со стороны родителей,
детям просто не вытянуть. Американская школа работает как сложная фабрика,
где каждый ребенок движется по своему собственному плану. Курсируя между
учителями, классами, передвигаясь по этажам, дети теряются, забывают учебники.
Они могут по ошибке попасть не на тот курс и потом три месяцев слушать
курс, в котором они ничего не понимают. Между курсами и классами нет никакой
преемственности. Если ребенок что-то пропустил, то ему потом уже не догнать
своих сверстников. Кроме того, предполагается, что родители будут работать
волонтерами (добровольцами) на выходные, помогать мыть окна, проверять
домашние задания, просто играть с детьми.
Приводя в такую школу своих детей, эмигранты из бывшего Советского Союза
бывают шокированы. Мало того, что их детей не учат (а именно так они оценивают
качество и уровень образования в США), так их теперь вызывают в школу два
раза в неделю и сообщают на автоответчик о каждом опоздании ребенка на
урок.
Теперь, когда и наша система образования, кажется, претерпевает революции,
хочется предупредить: только соразмерное распределение ответственности
за воспитание и образование детей между школой и семьей дает хорошие результаты.
Дорогие частные школы, в которые в России принимают по критерию платежеспособности
родителей, дают такой же высокий процент наркомании и девиаций, как и среда
беспризорников, потому что родители-снобы также мало проводят времени со
своими детьми, как и родители-алкоголики. Это такая обеспеченная беспризорность.
Западные частные школы проводят жесткий отбор как детей, так и родителей,
тестируя их социальную мотивацию.
Если в семье эмигрантов хватает ресурсов, чтобы переориентироваться на
новые условия обучения, то их дети учатся хорошо. Но, к сожалению, много
и случаев «выпадения» детей из школьного процесса, запущенности.
В) Сверстники
.
Дети, которые приехали со своими родителями в США уже в сознательном возрасте,
тем более, если они успели поучиться в российских школах, жалуются на то,
что их американские сверстники не умеют дружить и не любят друг друга.
Здесь они абсолютно солидарны с детьми наших эмигрантов во Франции. Эмоциональная
дистанция между нашими детьми в нашей школе очень маленькая. Чаще всего
они учатся в одном классе на протяжении всех десяти лет, и потом воспринимают
друг друга как братьев и сестер. Наши дети не только вместе учатся, но
дружат после школы, вместе встречают дни рождения, и обычно знают друг
о друге много личных деталей. Детям из России бывает дико, когда вчерашние
соученики только кивают друг другу при встрече, а не бросаются друг к другу
с объятьями.
В наших коллективах, начиная со школьной скамьи, очень важными, я бы сказала,
доминирующими, являются неформальные отношения, отношения любви, симпатии,
зависимости. Эта неформальная структура доминирует над формальными, деловыми
отношениями. Именно она влияет на формирование идентичности детей. Без
скрытой коллективной эмоциональной поддержки дети (да и взрослые)
чувствуют себя растерянно, испытывают тревогу, впадают в депрессию.
Еще один шокирующий наших детей фактор: отсутствие дисциплины в классах.
Отношения в традиционной советской школе иерархичны, предполагают довольно
жесткие отношения подчинения, а учителя, завучи, директора наделяются безусловным
авторитетом. Отношения между детьми и учителями в западных школах более
свободны. Во Франции авторитет учителя определяется его компетентностью,
а в США – его дружественным отношением к детям.
Почему мы такие образованные, умные и несчастные? Этот вопрос не дает покоя,
когда видишь очевидные преимущества нашего школьного образования и те усилия,
которые мы вкладываем в наших детей. Во-первых, в западных школах больше
ответственности и возможности реального выбора делегируется семье и ребенку,
что в конце концов помогает сформироваться взрослому, ответственному человеку,
не боящемуся неопределенности и жизненных перемен. В условиях советской
традиции воспитания все ресурсы личности ребенка бросаются на образование,
на тренировку интеллекта.
Кроме того, в западной традиции гораздо больше времени уделяется гуманитарному
образованию – литературе, языкам, истории. Знания о человеке и обществе
помогают ориентироваться детям в самых разных социальных ситуациях.
Наконец, по мнению специалистов, высшее образование в западных странах
более эффективно, чем наше, советское и постсоветское. Таким образом, если
кривая развития у западного ребенка идет вверх, по нарастающей, то кривая
развития ребенка из России идет резко вверх, вплоть до окончания школы,
сдачи порою жестоких вступительных экзаменов, а потом начинает снижаться.
Перелом происходит после второго курса.
С) Семья
.
Сравнение моделей семьи очень важно и для оценки и сравнения ситуаций развития,
в которых находятся российские, американские и французские дети, и для
того, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются наши соотечественницы,
вступающие в межкультурные браки.
Основной причиной женской эмиграции сейчас я бы назвала кризис отечественной
модели семьи. Если первые эмигранты из России в конце восьмидесятых руководствовались,
в основном, экономическими мотивами, то сегодняшние эмигранты ищут более
высокого качества отношений в другой культуре. Молодые девушки еще не разочаровались
в семье как таковой, но то, как они жили или жили их родители, их уже точно
не устраивает. Смущает и их готовность «сидеть дома и не работать», выйдя
замуж. Опыт межкультурных браков пока не позволяет рассматривать и их рецепт
безусловного счастья.
Прежде всего потому, что семейные модели в католической Франции, протестантской
Америке и православной России контрастируют.
Наша семья, по определению отечественного психолога Владимира Дружинина,
является сумасшедшей смесью православия и язычества. Мужчина при
такой модели обладает невероятной властью и авторитетом, но всю ответственность
за семью он делегирует жене, матери. Основная его роль – инициировать семью,
а семейная поденщина его уже не интересует. Отношения в семье напоминают
схватку, которую выигрывает психологически или физически сильнейший. Никакие
договоренности здесь не действуют, все разрешается через битие горшков.
Но и эта модель деформировалась в результате того, что в войнах и военных
конфликтах мы просто физически теряли огромные мужские популяции. В модели
нашей семьи потерялась фигура отца, и уже новой генерации юношей пришлось
занимать место ребенка. Не зря говорят об инфантилизме наших мужчин. В
свое время этот феномен был очень точно описан Ириной Грековой в ее «Корабле
вдов». В такой, дисгармоничной модели, женщина уготована или роль несчастной,
покорной жертвы, или роль героини, которая заменит детям и отца, и мать,
если муж физически или символически отсутствует.
Такая модель семьи сохранялась в советские времена за счет того, что была
развита система послешкольного образования и воспитания, и перегруженным
женщинам, которым приходилось успевать и дома, и на работе, было кому перебросить
детей, переадресовать часть своей ответственности за семью.
Перестройка стала критической точкой напряжения в терпении и покорности
россиянки. Груз был непомерным, бедность реальной, и они стали искать другие
способы. Последствием кризиса отечественной модели семьи стала и волна
разводов, превосходящая и американские, и французские показатели, и нарастающая
женская эмиграция, и социальное сиротство, когда бросают уже не только
мужей, но и детей.
Нормальной семьей вслед за Маргарет Мид В.Н. Дружинин называет семью "по
католическому типу" : в ней власть и ответственность распределены между
мужем и женой, но основную ответственность за семью несет муж как социально
более принимаемый и физически более сильный. И дети, и жена находятся в
равной эмоциональной близости как к отцу, так и к матери, в целом семья
построена по детоцентристкому типу. В основании католической модели лежит
принцип гармонии, сбалансированности, пришедший из античности, вознесенный
в эпоху Возрождения.
Американская модель семьи обозначается как протестантская; для нее характерна
балансировка власти и ответственности то в пользу отца, то в пользу матери.
Отношения партнерские, паритетные. Между членами семьи существует конкурентность.
Ребенок растет как потенциально равноправный взрослый. Поощряется выражение
позитивных эмоций, не принято жаловаться.
Для православного сознания основная норма – это предельная концентрация
и внутренняя сосредоточенность. Оно иронично настроено по отношению к внешней
позе, равнодушно к комфорту. Более того, телесная удовлетворенность кажется
основной помехой для душевной ясности и открытости. Для православия характерно
внутреннее напряжение на грани гибели и распада. Надрыв, как говорил Достоевский.
Вместе с тем, православная традиция обладает харизмой, которой нет ни в
какой другой религиозной традиции. Она фактически снимает все границы в
эмоциональном самовыражении человека, вплоть до его гибели или полном растворении
в другом, или в Боге. Я повторяю: такие реализации для психологически сильных
и выносливых людей, образы которых могут производить сильнейшее впечатление
и поклонение окружающих. Но тиражировать ее как норму я бы не стала.
Кстати, необузданная эмоциональность наших женщин оказывает на западного
мужчину довольно сильное воздействие. Но интересно другое: после распада
браков с русскими женщинами, после живодерских бракоразводных процессов
и вереницы сеансов у психоаналитиков, они все равно ищут русскую. «Это
как неизлечимая болезнь, я не могу ее забыть”, «Русские так красивы!»,
«Когда я вижу русскую, мое кровяное давление зашкаливает!», «Я не могу
избавиться от этого наваждения!». Но, согласитесь, что это ряд чрезмерных
эмоций. Психологически иностранцы «подсаживаются», если использовать терминологию
наркоманов, на иглу ярких и тотальных образов, стимулируемых поведением
сильных, неистовых людей из России.
Есть еще одно измерение, по которому три парадигмы различаются. Это временное
измерение. Я бы сказала, что православная рефлексия тяготеет к прошлому.
Все, что было, имеет невероятную ценность. Смерть оказывается идеалом
как вечное прошлое. Католическая модель – это интерес к настоящему. Вот
почему она легко подвержена модернизациям, и адаптируется под текущую жизнь.
Протестантизм – это ожидание счастья и радости в будущем, возможно, в самом
ближайшем. Вечно улыбающиеся и оптимистично настроенные американцы нас
раздражают именно своим нежеланием замечать трагическое прошлое, или невыразительное
настоящее. Одни уходят в бездеятельную рефлексию, другие пытаются принять
и упорядочить жизнь вокруг, а третьи пытаются строить совместное будущее,
быстро договариваясь о предпринимаемых группой действиях. Протестантская
модель прикрывает слабых, и ориентирована на внешний мир. Православная
– для исключительно сильных особей, способных внутренне сохраниться при
любых внешних невзгодах. Аутичная модель, где психика никогда не закончится
и всегда доминирует над внешним миром. Католическая модель частной жизни
– для умеренной публики, возможно, поэтому я лично тяготею к католической
модели, которая совпадает с нормальной.
12 декабря 1923 года в самой большой русской эмигрантской средней школе — в русской гимназии в Моравской Тшебове в Чехословакии — по инициативе бывшего директора этой гимназии А.П. Петрова совершенно неожиданно и для учащихся, и для педагогического персонала были отменены два смежных урока и учащимся было предложено: не стесняясь формой, размером и т.д. и без получения ими каких-либо указаний, написать сочинение на тему: “Мои воспоминания с 1917 года по день поступления в гимназию”. Авторы воспоминаний - дети, юноши и девушки в возрасте от 8 до 24 лет.
Фрагменты некоторых сочинений:
“Я рвался на фронт отомстить за поруганную Россию. Два раза убегал, но меня ловили и привозили обратно. Как я был рад и счастлив, когда мать благословила меня”.
“Папа и мама просили его остаться, так как он был еще мальчиком. Но ничто не могло остановить его. О, как я завидовала ему... Настал день отъезда. Брат радостный, веселый, как никогда, что он идет защищать свою родину, прощался с нами. Никогда не забуду это ясное, правдивое лицо, такое мужественное и красивое... Я видела его в последний раз”.
“Когда нас привезли в крепость и поставили в ряд для присяги большевикам, подошедши ко мне, матрос спросил, сколько мне лет? Я сказал: “девять”, на что он выругался по-матросски и ударил меня своим кулаком в лицо; что потом было, я не помню, т.к. после удара я лишился чувств. Очнулся я тогда, когда юнкера выходили из ворот. Я растерялся и хотел заплакать. На том месте, где стояли юнкера, лежали убитые и какой-то рабочий стаскивал сапоги. Я без оглядки бросился бежать к воротам, где меня еще в спину ударили прикладом”.
“По канавам вылавливали посиневшие и распухшие маленькие трупы (кадет)”.
“Нас “товарищи” называли “змеенышами контрреволюции”, как обидно было слышать такое прозвище!”
“Сделали обыск и взяли маму в тюрьму, но после 3-х недель отвезли маму в Екатеринодар, я подошел попрощаться, а красноармеец ударил меня по лицу прикладом — я и не успел”.
“Большевики все больше и больше забирали русскую землю”.
“Я понял, что при большевиках, как они себя называли, нам, русским, хорошо не будет”.
“Свет от пожара освещал церковь... на колокольне качались повешенные; их черные силуэты бросали страшную тень на стены церкви”.
“Одна (сестра милосердия) был убита, и тот палец, на котором было кольцо, отрезан”.
“Офицеры бросались из третьего этажа, но не убивались, а что-нибудь себе сламывали, а большевики прибивали их штыками”.
Пришел знакомый и стал рассказывать о том, как “Пришли большевики к нему в дом и убили жену и двух детей; вернувшись со службы, он пришел домой и увидел, что весь пол был в крови и около окна лежали трупы дорогих ему людей. Когда он говорил, он постоянно закрывал глаза; его губы тряслись, и, крикнув, вскочил с дивана и, как сумасшедший, вылетел во двор, что было дальше, я не видела”.
“Матросы озверели и мучили ужасно последних офицеров. Я сам был свидетелем одного расстрела: привели трех офицеров, по всей вероятности мичманов; одного из них убили наповал, другому какой-то матрос выстрелил в лицо, и этот остался без глаза и умолял добить, но матрос только смеялся и бил прикладом в живот, изредка коля в живот. Третьему распороли живот и мучили, пока он не умер”.
“Несколько большевиков избивали офицера, чем попало: один бил его штыком, другой ружьем, третий поленом, наконец, офицер упал на землю в изнеможении, и они... разъярившись, как звери при виде крови, начали его топтать ногами”.
“Вот женщина с воплем отчаяния силится сесть в тронувшийся поезд, с диким смехом оттолкнул ее солдат, с красной звездой дьявола, и она покатилась под колеса поезда... Ахнула толпа”.
“Расстрелы у нас были в неделю три раза: в четверг, субботу и воскресенье, и утром, когда мы шли на базар продавать вещи, видели огромную полосу крови на мостовой, которую лизали собаки”.
“Вечер. Тишина нарушалась выстрелами и воем голодных псов. Пришла старая няня и рассказывает вот что: (она была в числе заключенных и чудом выбралась оттуда) заключенные, избитые, раздетые, стояли у стен, лица их выражали ужас, другие с мольбой смотрели на мучителей, и были такие, чьи глаза презрительно смотрели на негодяев, встречали смерть, погибая за родину. Начались пытки. Стоны огласили... своды гаража, и няня упала; ее потом вынесли вместе с трупами”.
“Мама начала просить, чтоб и нас взяли вместе с ней; она уже предчувствовала и не могла говорить от волнения. В чрезвычайке маму долго расспрашивали, чья она жена. Когда мы вошли в комнату, нашим глазам представилась ужасная картина... Нечеловеческие крики раздавались вокруг, на полу лежали полуживые с вывороченными руками и ногами. Никогда не забуду, как какая-то старуха старалась вправить выломанную ногу... Я просто закрыла глаза на несколько минут. Мама была ужасно бледна и не могла говорить”.
“На другой день, когда они опять ворвались к нам, увидели моего дядю в погонах и офицерской форме, хотели сорвать погоны, но он сам спокойно их снял, вынул револьвер и застрелился, не позволив до себя дотронуться”.
“На этот раз были арестованы и папа и мама, я пошла к маме в тюрьму. Я с няней стояла около тюрьмы несколько часов. Наконец настала наша очередь, мама была за решеткой. Я не узнала маму: она совсем поседела и превратилась в старуху. Она бросилась ко мне и старалась обнять. Но решетка мешала, она старалась сломать ее; около нас стояли большевики и хохотали.
“Большевики совсем собрались уходить и перед отходом изрубили все вещи и поранили брата. Потом один из них хотел повесить маму, но другие сказали, что не стоит, так как уже все у них отобрали и все равно помрем с голоду”.
“Они потребовали мать и старших сестер на допрос. Что с ними делали, как допрашивали, я не знаю, это от меня и моих младших сестер скрывали. Я знаю одно — скоро после этого моя мать слегла и вскоре умерла”.
“Я своими глазами видела, как схватили дядю и на наших глазах начали его расстреливать, — я не могу описать всего, что мы переживали”.
“Я очень испугался, когда пришли большевики, начали грабить и взяли моего дедушку, привязали его к столбу и начали мучить, ногти вынимать, пальцы рвать, руки выдергивать, ноги выдергивать, брови рвать, глаза колоть, и мне было очень жаль, очень, я не мог смотреть”.
“Стали обыскивать, отца стащили с кровати, стали его ругать, оскорблять, стали забирать себе кресты... отец сказал: я грабителям не даю и ворам тоже не даю. Один красноармеец выхватил наган и смертельно его ранил. Мать прибежала из кухни и накинулась на них. Они ударили ее шашкой и убили наповал. Моя маленькая сестра вскочила и побежала к нам навстречу. Мы пустились бежать в дом. Прибегаем... все раскидано, а их уж нет. Похоронили мы их со слезами, и стали думать, как нам жить”.
“Явился к нам комиссар, который нам предлагал конфет и угрожал только, чтоб мы ему сказали, где наш отец, но мы хорошо знали, что они его хотят убить, и молчали”.
"В 12 часов ночи за нами пришли красноармейцы, с которыми была одна женщина. Построив нас по росту, они отвели в подвал, темный, сырой, с каким-то неприятным запахом. Раздев нас догола, среди нас были и женщины, они отобрали несколько офицеров и поставили к стенке. Прогремели выстрелы, раздались стоны. После первых жертв женщина комиссар отобрала женщин и передала красноармейцам для потехи у нас же на глазах. Я находился в каком-то оцепенении... Ко мне подошла чекистка и сказала: “Какой ты красивый мальчик. Знаешь что! Идем со мной на ночь и ты будешь счастлив. Ты многое узнаешь и станешь моим товарищем”. Не слыша моего ответа, она грубо засмеялась и потащила меня в смежную комнату. Не помня себя, я закричал и заплакал. Она оттолкнула меня и сказала: “Уведите назад этого паршивца, я сегодня не в настроении”. Очутившись в камере, я потерял сознание. Очнулся уже дома, на своей кровати с перевязанной головой. Папа выздоровел и сменил меня. Я уже больше трех недель лежал в горячке. (Приближалась Добровольческая армия.) Придя домой, я застал... сестру в слезах. Ничего не говоря, сестра указала на газету. Я взял и опустились руки. Там было написано, что сегодня ночью отец и другие будут расстреляны, как бывшие офицеры-черносотенцы. Мы не знали, что делать. Решили пойти отслужить молебен Преподобному Даниилу, святому отца”
Первая шальная мысль о бегстве из Москвы пришла мне в голову еще во время неожиданной командировки в Швейцарию, в разгар апреля. Зеленые лужайки, чистые улицы, люди на велосипедах и горы вдалеке – очень захотелось поселиться в этой сельской идиллии.
Помню, как смотрела с завистью на швейцарскую мамашу, которая везла своего двухлетнего малыша в велотележке на прицепе. Светило солнце, кругом цветы и синее-синее небо. Сразу вспомнилось, как мы недавно пытались пробраться по слякоти в наш родной Измайловский парк и по пути пару раз свалились с сыном прямо в эту самую слякоть.
Проект «Кенгуру»
«В Австралии такой воздух, такой воздух... Прямо целительный. Это давно поняли в Англии, и поэтому в Австралию ссылают людей - на исправление. Нет, я убежден. Люди в Австралии становятся лучше!» - это непридуманный диалог из фильма «Дети капитана Гранта».
Посещение разных средиземноморских стран с ребенком укрепило желание слинять куда-нибудь в теплые края. Купаться в теплом и чистом море ему категорически нравилось, как и бегать почти голышом, без привычных финских непромокаемых комбинезонов и сапог. Сначала я просто мечтала вслух, как когда-нибудь, может быть, перееду в Италию, буду жить на берегу моря или озера, и вспоминать полярные ночи своего детства (а родилась я на Крайнем Севере) как страшный сон.
Вскоре о климатической иммиграции мы стали думать всерьез и вместе с мужем. Чуть не купили домик на берегу Азовского моря, рассматривали вариант переезда в Краснодарский край и даже в Египет. «Зачем Египет?» - заметил приятель во время дружеских посиделок за чаем. «Когда есть Канада, Новая Зеландия и Австралия». Этот разговор стал критическим на пути к нашей новой жизни. Перевели документы, сдали экзамены, прошли медицинское обследование. Визу мы ждали примерно полтора года, при этом особенно тяжелыми казались последние полгода, сидели буквально на чемоданах, в полной неопределенности: то ли уедем, то ли нет.
В конце-концов врата рая открылись, последние коробки с вещами были отправлены, всей семьей под плач родных и скупые слезы друзей мы сели на самолет Британских Авиалиний и отправились на другой конец света. Менять географическую зону и место жительства мне приходилось и до этого. А вот страну – никогда. Ребенку же на момент отъезда почти исполнилось шесть лет, полгода мы тщательно готовили его к переезду, рассказывая про то, как замечательно мы заживем на пятом континенте.
Чтобы долгий перелет и расставание с бабушками и друзьями не травмировал малыша, мы взяли в путешествие любимого плюшевого мишку. Медвежонок был не простой, а французский, привезенный из Парижа. Поэтому я давила на то, что ему-то не привыкать путешествовать. Он даже, можно сказать, соскучился по взлетам и посадкам и загадочным странам.
Австралийская идиллия рисовалась мне примерно так: домик, зеленый весь в цветах дворик, гамак, велосипеды на крыльце, серфинг и батут. Ребенок с удовольствием и вприпрыжку идет в австралийскую школу, много бегает по траве, играет в футбол и катается на велосипеде.
Как и у большинства россиян, мои представления об Австралии ограничивались образами кенгуру, коалы, сиднейской оперы, красной горы посреди материка, и, конечно, бронзовых белокудрых серфингистов, куда же без них.
О новом месте жительства я знала кое-что по передачам Кусто, по книжке Даррела «Путь кенгуренка», да биографии модного фотографа Хельмута Ньюмена, который был сослан в Австралию из Сингапура в период Второй Мировой Войны. Ах да, еще видела настоящих аборигенов с диджериду на неделе Австралии в Москве.
Первые два месяца прошли в полнейшем слиянии с природой. Уставшие от хмурой московской зимы мы погрузились в радости отельного отдыха «все включено». Купались каждый день в заливе (сын тут же захотел записаться в спасатели), ездили на океан и в горы, покупали ящиками манго, питались сплошными морепродуктами и исследовали детские площадки. Австралия – дача, растянутая на страну.
Рай для детей – идеальная среда обитания, которая заслуживает высших баллов по всем параметрам: экология, природа, возможности для физического развития, спорта, гармоничного, в общем, развития. Однажды мы вышли с сыном из дома. И вдруг: над нами пролетела стайка попугайчиков с розовыми животиками. Подумалось: уж и видела их столько раз, а как все-таки это радостно.
Радостно иметь возможность видеть это почти каждое утро. Прямо по расписанию. Глядеть во все глаза на это море, огромное самое синее в мире небо, улыбаться пусть термоядерному, но солнцу. Крутить педали велосипеда среди болот и лужаек, и одуревать от красоты этой самой болотистой, невероятно ухоженной, где каждая палка посчитана, местности.
Сидеть на пирсе и наблюдать за пеликанами, которые грациозно (это не ради красивого словца) летят куда-то. Австралия - не просто страна из голливудского фильма. Тут много нескромной кричащей красоты, а много и неприметной глазу, которая по капельке наполняет душу позитивом. Мы полюбили наше новое ПМЖ, где нет осени, а есть позднее лето, ранняя зима, зима в разгаре и поздняя зима, чистота вокруг, это солнце, зеленая, зеленая трава, бесконечные красные крыши домиков и непрерывность пляжей.
Ребенок довольно неплохо адаптировался в школе, сначала ему помогал русский друг, выполнявший функцию переводчика. Первую книгу на английском мы вместе с малышом прочитали спустя пару месяцев после приезда, более или менее бегло он заговорил через полгода. Помню, как учил произносить определенный артикль the. Ты, говорит, язык не высовывай, а говори так: и ловко произносил этот чертов звук, над которым я билась все школьные годы.
Мне повезло, что ребенок экстраверт, до этого часто путешествовали, так что барьера в общении у него не было. Однако переезд в другую страну не прошел для него бесследно. Первым признаком стресса стало появление «друзей» - не настоящих, а плюшевых. К игрушечному мишке, нашему спутнику, прибавились бананы в пижамах, коала – космонавт, утенок – ковбой и куча разных прочих сущностей. Иногда малыша не было видно, так и спал, в крепости из плюшевых мишек.
Нередко он не хотел ходить в школу, мотивируя тем, что там все «англичанины». Чтобы ему было комфортно, мы подружились с русскими в нашей округе и собирались для занятий и совместного творчества, праздновали вместе день рождения. Через год у сына появился первый австралийский друг. Теперь у него куча друзей в школе, по ушу и футбольных приятелей. С русскими детьми он по-прежнему очень дружен.
Однажды мы ехали в школу на велосипедах (мамина мечта!), учили таблицу умножения и разговаривали о том, о сем. Вдруг ребенок чуть не расплакался. «Все, - говорил он, - тут неправильно. Зима не зима, а лето - не лето. И месяцы тут неправильные. Вот в Москве все правильно, а здесь - наоборот».
В 2009 году мы получили австралийское гражданство. Два года адаптации прошли незаметно, и вскоре мы прилетели в Россию, чтобы повидать бабушек и дедушек.
Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. После пяти лет жизни «вниз головой» кажется привычным, что море в пяти минутах от дома, что в небе – другие звезды, велосипеды, батут, серфинги – все это есть в моем новом доме, как и мечталось. Ребенок привык жить без снега, проводить много времени на улице и говорить на двух языках. «Англичанинами» больше никого не называет, и вполне ассимилировался, сохранив культурный колорит. Скайп помогает поддерживать диалог с родными. Говорит он практически без акцента на английском, учится в обычной школе, катается, как и мечтала его мама на велосипеде, занимается ушу, играет в футбол. Он прекрасно читает по-русски, любит смотреть КВН и русские фильмы, знает, что его родина – Россия, а растет он в Австралии.
Не все идеально в этом раю, но мне, как влюбленному в природу человеку, в нашей иммиграции нравится именно этот «зеленый» компонент. Если раньше за природой приходилось куда-то ехать по пробкам, лететь, делать визы, то теперь - достаточно распахнуть дверь на улицу. А прекрасный ландшафт, если верить Ушинскому, имеет огромное воспитательное влияние на развитие молодой души. Что же до эмиграции – можно сказать, что все прошло успешно.
02.05.2015 01:02
12 декабря 1923 года в самой большой русской эмигрантской средней школе - в русской гимназии в Моравской Тшебове в Чехословакии - по инициативе бывшего директора этой гимназии А.П. Петрова совершенно неожиданно и для учащихся, и для педагогического персонала были отменены два смежных урока и учащимся было предложено: не стесняясь формой, размером и т.д. и без получения ими каких-либо указаний, написать сочинение на тему: “Мои воспоминания с 1917 года по день поступления в гимназию”. Авторы воспоминаний - дети, юноши и девушки в возрасте от 8 до 24 лет.
Фрагменты некоторых сочинений:
“Я рвался на фронт отомстить за поруганную Россию. Два раза убегал, но меня ловили и привозили обратно. Как я был рад и счастлив, когда мать благословила меня”.
“Папа и мама просили его остаться, так как он был еще мальчиком. Но ничто не могло остановить его. О, как я завидовала ему... Настал день отъезда. Брат радостный, веселый, как никогда, что он идет защищать свою родину, прощался с нами. Никогда не забуду это ясное, правдивое лицо, такое мужественное и красивое... Я видела его в последний раз”.
“Когда нас привезли в крепость и поставили в ряд для присяги большевикам, подошедши ко мне, матрос спросил, сколько мне лет? Я сказал: “девять”, на что он выругался по-матросски и ударил меня своим кулаком в лицо; что потом было, я не помню, т.к. после удара я лишился чувств. Очнулся я тогда, когда юнкера выходили из ворот. Я растерялся и хотел заплакать. На том месте, где стояли юнкера, лежали убитые и какой-то рабочий стаскивал сапоги. Я без оглядки бросился бежать к воротам, где меня еще в спину ударили прикладом”.
“По канавам вылавливали посиневшие и распухшие маленькие трупы (кадет)”.
“Нас “товарищи” называли “змеенышами контрреволюции”, как обидно было слышать такое прозвище!”
“Сделали обыск и взяли маму в тюрьму, но после 3-х недель отвезли маму в Екатеринодар, я подошел попрощаться, а красноармеец ударил меня по лицу прикладом - я и не успел”.
“Большевики все больше и больше забирали русскую землю”.
“Я понял, что при большевиках, как они себя называли, нам, русским, хорошо не будет”.
“Свет от пожара освещал церковь... на колокольне качались повешенные; их черные силуэты бросали страшную тень на стены церкви”.
“Одна (сестра милосердия) был убита, и тот палец, на котором было кольцо, отрезан”.
“Офицеры бросались из третьего этажа, но не убивались, а что-нибудь себе сламывали, а большевики прибивали их штыками”.
Пришел знакомый и стал рассказывать о том, как “Пришли большевики к нему в дом и убили жену и двух детей; вернувшись со службы, он пришел домой и увидел, что весь пол был в крови и около окна лежали трупы дорогих ему людей. Когда он говорил, он постоянно закрывал глаза; его губы тряслись, и, крикнув, вскочил с дивана и, как сумасшедший, вылетел во двор, что было дальше, я не видела”.
“Матросы озверели и мучили ужасно последних офицеров. Я сам был свидетелем одного расстрела: привели трех офицеров, по всей вероятности мичманов; одного из них убили наповал, другому какой-то матрос выстрелил в лицо, и этот остался без глаза и умолял добить, но матрос только смеялся и бил прикладом в живот, изредка коля в живот. Третьему распороли живот и мучили, пока он не умер”.
“Несколько большевиков избивали офицера, чем попало: один бил его штыком, другой ружьем, третий поленом, наконец, офицер упал на землю в изнеможении, и они... разъярившись, как звери при виде крови, начали его топтать ногами”.
“Вот женщина с воплем отчаяния силится сесть в тронувшийся поезд, с диким смехом оттолкнул ее солдат, с красной звездой дьявола, и она покатилась под колеса поезда... Ахнула толпа”.
“Расстрелы у нас были в неделю три раза: в четверг, субботу и воскресенье, и утром, когда мы шли на базар продавать вещи, видели огромную полосу крови на мостовой, которую лизали собаки”.
“Вечер. Тишина нарушалась выстрелами и воем голодных псов. Пришла старая няня и рассказывает вот что: (она была в числе заключенных и чудом выбралась оттуда) заключенные, избитые, раздетые, стояли у стен, лица их выражали ужас, другие с мольбой смотрели на мучителей, и были такие, чьи глаза презрительно смотрели на негодяев, встречали смерть, погибая за родину. Начались пытки. Стоны огласили... своды гаража, и няня упала; ее потом вынесли вместе с трупами”.
“Мама начала просить, чтоб и нас взяли вместе с ней; она уже предчувствовала и не могла говорить от волнения. В чрезвычайке маму долго расспрашивали, чья она жена. Когда мы вошли в комнату, нашим глазам представилась ужасная картина... Нечеловеческие крики раздавались вокруг, на полу лежали полуживые с вывороченными руками и ногами. Никогда не забуду, как какая-то старуха старалась вправить выломанную ногу... Я просто закрыла глаза на несколько минут. Мама была ужасно бледна и не могла говорить”.
“На другой день, когда они опять ворвались к нам, увидели моего дядю в погонах и офицерской форме, хотели сорвать погоны, но он сам спокойно их снял, вынул револьвер и застрелился, не позволив до себя дотронуться”.
“На этот раз были арестованы и папа и мама, я пошла к маме в тюрьму. Я с няней стояла около тюрьмы несколько часов. Наконец настала наша очередь, мама была за решеткой. Я не узнала маму: она совсем поседела и превратилась в старуху. Она бросилась ко мне и старалась обнять. Но решетка мешала, она старалась сломать ее; около нас стояли большевики и хохотали.
“Большевики совсем собрались уходить и перед отходом изрубили все вещи и поранили брата. Потом один из них хотел повесить маму, но другие сказали, что не стоит, так как уже все у них отобрали и все равно помрем с голоду”.
“Они потребовали мать и старших сестер на допрос. Что с ними делали, как допрашивали, я не знаю, это от меня и моих младших сестер скрывали. Я знаю одно - скоро после этого моя мать слегла и вскоре умерла”.
“Я своими глазами видела, как схватили дядю и на наших глазах начали его расстреливать, - я не могу описать всего, что мы переживали”.
“Я очень испугался, когда пришли большевики, начали грабить и взяли моего дедушку, привязали его к столбу и начали мучить, ногти вынимать, пальцы рвать, руки выдергивать, ноги выдергивать, брови рвать, глаза колоть, и мне было очень жаль, очень, я не мог смотреть”.
“Стали обыскивать, отца стащили с кровати, стали его ругать, оскорблять, стали забирать себе кресты... отец сказал: я грабителям не даю и ворам тоже не даю. Один красноармеец выхватил наган и смертельно его ранил. Мать прибежала из кухни и накинулась на них. Они ударили ее шашкой и убили наповал. Моя маленькая сестра вскочила и побежала к нам навстречу. Мы пустились бежать в дом. Прибегаем... все раскидано, а их уж нет. Похоронили мы их со слезами, и стали думать, как нам жить”.
“Явился к нам комиссар, который нам предлагал конфет и угрожал только, чтоб мы ему сказали, где наш отец, но мы хорошо знали, что они его хотят убить, и молчали”.
"В 12 часов ночи за нами пришли красноармейцы, с которыми была одна женщина. Построив нас по росту, они отвели в подвал, темный, сырой, с каким-то неприятным запахом. Раздев нас догола, среди нас были и женщины, они отобрали несколько офицеров и поставили к стенке. Прогремели выстрелы, раздались стоны. После первых жертв женщина комиссар отобрала женщин и передала красноармейцам для потехи у нас же на глазах. Я находился в каком-то оцепенении... Ко мне подошла чекистка и сказала: “Какой ты красивый мальчик. Знаешь что! Идем со мной на ночь и ты будешь счастлив. Ты многое узнаешь и станешь моим товарищем”. Не слыша моего ответа, она грубо засмеялась и потащила меня в смежную комнату. Не помня себя, я закричал и заплакал. Она оттолкнула меня и сказала: “Уведите назад этого паршивца, я сегодня не в настроении”. Очутившись в камере, я потерял сознание. Очнулся уже дома, на своей кровати с перевязанной головой. Папа выздоровел и сменил меня. Я уже больше трех недель лежал в горячке. (Приближалась Добровольческая армия.) Придя домой, я застал... сестру в слезах. Ничего не говоря, сестра указала на газету. Я взял и опустились руки. Там было написано, что сегодня ночью отец и другие будут расстреляны, как бывшие офицеры-черносотенцы. Мы не знали, что делать. Решили пойти отслужить молебен Преподобному Даниилу, святому отца”
“Нас несколько раз водили на расстрел. Ставили к стенке и наставляли револьверы”.
“Красноармейцы арестовали меня и брата и привели в чрезвычайку. Нас выпустили избитыми и в крови. Когда мы вышли, публика обратила на нас внимание. Заметивши это, большевики выскочили из чрезвычайки и открыли по нас стрельбу”.
“Во время обыска они кололи меня штыками, заставляя меня сказать, что где спрятано... издевались над моей матерью, бабушкой и сестрой”.
“С тех пор я ненавижу большевиков и буду мстить им за смерть отца, когда вырасту большой”.
“Коммунисты всячески издевались над моими родителями, и когда я об этом узнал, то решил мстить им до последнего”.
“Я по примеру своих товарищей поступил в армию. Я горел желанием отомстить большевикам за поруганную родину”.
“Здесь приходилось неоднократно ловить комиссаров... я мстил им как мог”.
“Я почувствовал, что в сердце у меня выросла большая немая боль, которую нельзя ни передать словами, ни описать. Вместе с гибелью семейного очага, я увидел разбитым и мой духовный мир. Я упрекал себя, что я перестал любить людей”.
Это свидетельства детей.
И как заключительный аккорд: у всех в разных выражениях часто повторяется одна и та же мысль, наиболее ярко схваченная четырнадцатилетним мальчиком:
«Господи, спаси и сохрани Россию. Не дай погибнуть народу Твоему православному!»
 Афоризмы про Величие Ярослав Гашек
Афоризмы про Величие Ярослав Гашек Шум как фактор окружающей среды
Шум как фактор окружающей среды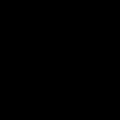 Ударение в английском языке
Ударение в английском языке