Обладая пылким и проницательным умом он живой. "ужасные бакенбарды и дерзкий взор" - современники о пушкине. Русский язык и литература
Личность его не вызывала симпатий. Напротив, как отметил еще Аполлон Григорьев, поступки Печорина исключали всякую возможность оправдания и сочувствия. В самом деле, если разрушительное вторжение Печорина в мирное житье контрабандистов Тамани можно как-то объяснить стихийным бедствием, случайностью, то как соотнести с понятием благородства его обхождение с княжной Мери или расчетливое убийство Грушницкого? Однако Печорин все равно притягивает к себе, хотя похоже, что притягательность связана лишь с художническим мастерством Лермонтова, а не с человеческими качествами героя того времени. «Все-таки жаль, что Лермонтов истратил свой талант на изображение существа, каков его гадкий Печорин»,- написал В. Кюхельбекер в 1843 году. Пылкий и страстный, истинный Робеспьер восстания на Сенатской, стрелявший в великого князя Михаила Павловича, он имел основание для недовольства Печориным. Спустя столетие прямой антипод В. Кюхельбекера, мягкий, эластичный по натуре А.Н.Толстой тоже будет восхищаться «раскрытием образа Печорина, героя времени, продукта страшной эпохи, опустошенного, жестокого, ненужного человека, со скукой проходящего среди величественной природы и простых, прекрасных, чистых сердцем людей».
Итак, ни характеры воспринимающих, ни даже дистанция в столетие не вносят, казалось, никаких поправок в оценку личности Печорина. Однако не для собственного ли убеждения в ненужности его как человека вытягивает А. Н. Толстой вереницу обвинений, по инерции упуская из виду всем зримую деталь, взывающую к справедливости? Уж где никогда не испытывал скуку Печорин, так это среди величественной природы. Он днями пропадает на охоте, довольствуясь скромными трофеями. А когда наступает день возможной гибели, именно через восприятие красоты природы в нем обостряется восторг бытия: «Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томленье. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню - в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемой стеной». Увлекающийся прекрасной половиной человечества до того, что даже способен поместить в своем сердце одновременно двух возлюбленных, Печорин утверждает: «Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озарённых южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утёса на утёс". Одного этого признания достаточно, чтоб говорить о том, что Лермонтов передал своему герою свои чувства, ибо так полюбить природу Кавказа мог только тот, кто с этой самой природой знаком давно, с детства или, как Лермонтов, с отрочества. Выходит, что не А.Н. Толстой, а именно Лермонтов прошел со скукой мимо «величественной природы и простых, прекрасных, чистых сердцем людей».
С кистью Печорина может сравниться только кисть Манфреда, по воле Байрона создавшего пейзажи, исполненные чистой прелести. И вряд ли Лермонтов, как и Байрон, мог доверить свое чувство природы «гадкому», «жестокому» человеку.
Образ Манфреда возник рядом с Печориным не по прихотливой ассоциативности. Печорин сам указывает на свое родство с Манфредом: «В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? - одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений».
Родство Печорина с Манфредом несомненно и без «ночной битвы с привидением», этого прямого намека на байроновского героя.
С людьми имел я слабое общенье,
Но у меня была иная радость,
Иная страсть: Пустыня...-
говорит Манфред и за своего русского собрата о приверженности к одиночеству и природе. И в другой раз он делает признание как бы впрок и за Печорина:
Я только тех губил,
Кем был любим, кого любил всем сердцем,
Врагов я поражал, лишь защищаясь,
Но гибельны мои объятья были.
Есть еще черточки, роднящие Манфреда и Печорина. Но думается, что приводить их излишне, и, конечно, не из страха за Печорина перед современной Татьяной Лариной. Блистающая образованностью и самомнением, княжна Мери (кстати, она «читала Байрона по-английски») выделила Печорина за его неординарность, а Вера, близко знающая Печорина и в первом и во втором своем замужестве, считает, что в его «природе есть что-то особенное, ему одному свойственное».
Впрочем, и сам Печорин, мог бы сказать: «Нет, я не Манфред, я другой», когда писал о себе: «Нет! я бы не ужился с этой долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща...»
Не Манфред с его тягостным умонастроением, окрашенным крушением идеалов эпохи Просвещения,- за этими строками из «Журнала» Печорина проглядывает душа человека, живущего преимущественно впечатлениями российской действительности, эпохи восстания на Сенатской. В пору восстания Печорину было семнадцать лет. И неудивительно, что он так органично впитал мятежный дух «разбойника». Последнее слово взято в кавычки потому, что в декабристской литературе оно служило символом вольности и свободы, а это было хорошо известно современникам Лермонтова, хотя среди них было немало и таких, которые проявляли, как с сарказмом отметил поэт в предисловии ко второму изданию «Героя нашего времени», «несчастную доверчивость к буквальному значению слов». Можно понять горечь Лермонтова, вызванную плоскими статьями о его романе. Однако трудно признать своевременной эту подсказку. «Героя нашего времени» читали и «между строками», с одной стороны, Белинский, с восторгом принявший гениальное сочинение, с другой - Николай I, назвавший то же самое создание высокого духа «жалкой книгой», обнаруживающей «большую испорченность ее автора». Что же касается «несчастной доверчивости» иных читателей, то в ней «виноват» и Лермонтов, чудесно владеющий противоцензорским оружием тайнописи.
Ныне убедительно установлены гражданские устремления Печорина, так что его тайно проявленные продекабристские симпатии стали явными. Он отнюдь не бог весть за что оказался в кавказской армии, где в то время пребывали или неродовитые грушницкие да драгунские капитаны, или опальные, в числе которых был и сам Лермонтов. Ночь перед дуэлью Печорин провел в «увлечении волшебным вымыслом» романа В. Скотта «Шотландские пуритане», повествующего о борьбе против монарха. Единственным близким Печорину человеком был Вернер, прототипом которого послужил доктор Николай Васильевич Майер, сочувствовавший ссыльным декабристам... И все-таки для понимания личности Печорина нельзя признать достаточным принцип, выраженный в известной поговорке: скажи, кто твой друг... В этом случае останутся непонятными те из поступков Печорина, которые «публично» признаются непростительными, но прощаются в глубине души. То есть нам необходимо разобраться в сокрытых пружинах наших собственных поступков, чтобы проникнуться человеческим в Печорине и попытаться ответить на вопрос не кто его друг, а кто он сам.
Вспомним, что Печорин - молодой человек двадцати пяти лет. Он уверен в своем богатом жизненном опыте и знании людей, особенно по части слабых струн,- и мастерски поддерживает в нас иллюзию этого знания. Будучи человеком светским, он видит насквозь княгиню Лиговскую, ее дочь, Грушницкого, словом, всех тех, кто фигурирует в романе под собирательным названием «водяное общество», донашивающим модное платье петербургских салонов. Тут Печорин напоминает искусного кукловода, посвященного в секрет управления каждой марионеткой. Но, скажите, куда делся его богатый жизненный опыт при первой встрече с людьми другого круга, когда Печорин сам становится марионеткой в руках контрабандиста Янко и его юной подруги? Под их дудочку он пляшет комично, а мы не смеемся, как не смеялись бы неловкому падению птенца, до срока выпорхнувшего из родительского гнезда. Обратите внимание на ваш вздох облегчения, когда Печорин благополучно достигает спасительного берега. Вы встревожились не за его жизнь, ибо вам уже известно, что умер он при иных обстоятельствах. Вы встревожились за его беззащитную и доверчивую душу, в радостном удивлении ринувшуюся к «простым, прекрасным, чистым сердцем людям». Действовали контрабандисты, конечно, в согласии со своим кодексом. Но кодекс этот не имеет никакого отношения к голосу сердца. Им случайно не удалось убить невольного свидетеля их дела. Поэтому они хладнокровно бросают ставших вдруг ненужными компаньонов - слепого мальчика и старуху - на верную голодную смерть. «Закон джунглей», как сказали бы теперь. «Честные контрабандисты», как отметил Печорин, в едкой иронии выделив эти слова. Романтик, все еще лелеющий «радужные образы первой молодости», в Тамани прозрел и увидел вкруг себя пустыню. После урока, преподанного контрабандистами, он научился страстям и «простых, прекрасных, чистых сердцем людей», среди которых Азамат, выменявший родную сестру на коня, Казбич, воткнувший нож ей в спину, ее отец, из трусости перекинувшийся на сторону противника, казак, старательно целящийся в мирного кавказца, жизнь которого добрый Максим Максимыч оценил в рубль... Не следует, разумеется, зачеркивать различия между «водяным обществом» и «простыми, прекрасными, чистыми сердцем людьми». Различия есть, и огромные. И Казбич, и Максим Максимыч стоят неизмеримо выше грушницких. Первым щедрой рукой отпущено страдание, последние совершенно чужды ему. Однако при всех различиях тех и других сближает общая философия, весьма точно выраженная в банальной сентенции драгунского капитана о судьбе-индейке. Отвратителен запашок этой индейки. Они ставят не свою, а лишь чужую жизнь в копейку, то пытаясь утопить не умеющего плавать, то подводя на убой к барьеру человека с незаряженным пистолетом. Их мораль срослась с аморализмом, который одни неосознанно, другие лицемерно приписывают Печорину, не приемлющему условности окружающей его духовной пустыни. Он неудобный, некомпанейский и, должно быть, человек далеко не ангельского характера.
Белинский прямо связывал Печорина с Лермонтовым «как он есть». Это преувеличенное допущение помогло критику зорко подметить в «двойнике» великого поэта благородство и красоту, несгибаемую волю и бурную энергию, глубину ума и пылкость сердца, но вместе с тем пламенная любовь к Лермонтову навела на не очень убедительную подоплеку отрицательных поступков Печорина. Их Белинский скопом оправдал обстоятельствами, возложив ответственность на «позор общества» последекабристской эпохи. В главном верная мысль, она не объясняет как раз тех частностей, которые бросают густую тень на Печорина. Ни общество, ни время не заставит благородного героя мелочно и злобно разбивать сердце невинной девушки, чтобы справить дьявольское торжество: «И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. А еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия». А дуэль с Грушницким? Одной ее картины достаточно, чтобы снять тождество между Печориным и Лермонтовым, до последнего своего вздоха державшимся заповеди: «Не убий!» Нет, Лермонтов никогда не поступит так, как поступил Печорин, но он любит его, как любит мать свое страждущее дитя, и сделал все, чтобы представление о нем было самым лестным.
Роман «Герой нашего времени» очень лиричен. Так что не грех при его исследовании пользоваться биографическим методом. А.В.Дружинин писал: «Большая часть современников Лермонтова, даже многие из лиц, связанных с ним родством и приязнью, - говорят о поэте как о существе «желчном, угловатом, испорченном и предававшемся самым неизвинительным капризам, - но рядом с близорукими взглядами этих очевидцев идут отзывы другого рода, отзывы людей, гордившихся дружбой Лермонтова и выше всех других связей ценивших эту дружбу». Как тут не вспомнить отношение к Печорину, с одной стороны, Грушницкого и драгунского капитана, а с другой - Максима Максимыча и доктора Вернера. Можно привести десятки примеров, иллюстрирующих сходство некоторых черт Печорина и Лермонтова. Можно в тысячный раз повторить, что в основу «Тамани» положено происшествие из жизни Лермонтова. Можно, наконец, установить идентичность почерков Печорина и Лермонтова. И все-таки в допущение Белинского - «как он есть» - вкралась неточность. Печорин - не Лермонтов. Он alter ego, "воплощенное в лирическом «я» поэта, отражающее, по выражению Лермонтова, «мечты созданье». Он наделен отличиями страждущего жителя сокровенной лермонтовской «пустыни». Плачет в «пустыне» утес, покинутый золотой тучкой. Там же, на безлюдье, вдали от любопытствующих взоров позволит себе в открытую проявить накипевшее чувство и обреченный на одиночество Печорин, загнавший лошадь в тщетной погоне за возлюбленной. В стихах горестно приносится благодарность творцу за «жар души, растраченный в пустыне», в лживом, мертвом обществе. Та же горестная нота звучит и у Печорина: «В этой напрасной борьбе я истощил и жар души и постоянство воли». И когда он вопрошает себя - «чего жду от будущего?» - ему отвечает внутренний голос: «Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть...» Поэтому невозможно согласиться с мнением Г.В.Плеханова: «Мы совсем не знаем, например, как относится к своим крестьянам Печорин». Крестьян в романе нет. Однако в другом месте Лермонтов от имени своего героя признался в том, что «смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков». Для иного представления о столь лиричном лермонтовском герое, каким является Печорин, роман не дает повода.
Печорин как «мечты созданье» наделен и теми чертами, которые хотел бы иметь и сам автор. Человек действия, он то и дело подвергается смертельной опасности. На нем Лермонтов как бы проверяет силу собственной воли и крепость руки. Лермонтов буквально заставляет Печорина выстрелить в Грушницкого. Всмотритесь внимательно в этих персонажей. Тут Лермонтов жаждет вознаградить себя за несправедливость судьбы. Печорин слишком умен и слишком благороден, чтобы стать убийцей низкого, спотыкающегося в животном страхе Грушницкого. Предчувствуя сомнения читателей, Лермонтов компенсирует отсутствие убедительности внушением. Обладатель лаконичного слога «Тамани» вдруг становится любителем тавтологии, повторяющим, что «все устроилось бы к лучшему», прояви Грушницкий великодушие... которого начисто лишен. Нет. Это сам Лермонтов хотел устроить все к лучшему, понимая, что это невозможно. И лето 1841 года подтвердило его правоту.
Но не получается ли, что в Печорине воплощен идеализированный образ, а не реальный тип положительного героя времени? Похоже, что дело обстоит именно так. Печорин вылеплен столь великолепным, что проттипом его никого не назовешь, разве только нашего любимейшего поэта. Даже внешность у Печорина чудесна, с его улыбкой, в которой «было что-то детское». Он легко, без особых усилий со своей стороны завоевал симпатию Максима Максимыча, перевидавшего на своем веку офицерской братии. Суждения Максима Максимыча о нем отечески назидательны. Больно не по сердцу пришлась стареющему без семьи Максиму Максимычу легкомысленная, как ему представляется, перемена в его молодом друге к Бэле. Принимая горячее участие в несчастной девушке, он вызывает Печорина на объяснение, внимательно вслушивается в искреннее излияние его души: «Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если вы хотите, я ее еще люблю... я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно...» И вновь набежавшая было туча рассеялась, а дальнейшим своим рассказом о судьбе Бэлы Максим Максимыч показывает, что слова Печорина о самоотверженности не пустой звук.
Спустя пять лет при нечаянной их встрече Максим Максимыч «хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку»,- сообщает повествователь. Очень зоркий и очень наблюдательный, но лично не знакомый с Печориным, повествователь мог дать лишь наружную, внешнюю картину происходящего. Вот они, совершенно изумительные строки из диалога Максима Максимыча и Печорина:«- А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..
Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся... - Да, помню! - сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...»
Каждый из участников диалога по-своему огорчен. Максим Максимыч - сухостью Печорина, а Печорин - самим процессом общения с Максимом Максимычем. Их ничто не объединяло - ни возраст, ни общие интересы, ни образ мыслей. Ничто, кроме воспоминаний. И Максим Максимыч должен был пойти своей единственной козырной картой: «А Бэла?» Через несколько страниц в «Журнале» Печорина мы прочтем, что «всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки; я глупо создан: ничего не забываю, ничего». Однако, еще не зная об этой особенности печоринского склада, мы благодаря повествователю чувствуем, что вопрос о Бэле прозвучал для Печорина выстрелом, который он всячески пытался упредить, стараясь (коль не удалось избежать встречи) быстрее проститься с Максимом Максимычем, чем и объясняется его внешняя холодность и принужденный зевок. Так что легенда о жестокости Печорина целиком обязана его личным стараниям.
Почему издатель решил обнародовать «Журнал» Печорина, «предать публике сердечные тайны человека», с которым он был едва знаком. Из-за занимательности записок или высоких их литературных достоинств? Нет. Он ограничивается мотивом, вполне сомнительно характеризующим их литературные качества: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки». И только. Такой мотивировкой можно лишь возбудить нескромное любопытство членов цивилизованного общества, столь охочих до сердечных тайн ближнего. Ловец, он захлопнет свою ловушку в надежде, что читатели «найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем». А для вящей уверенности, что эта надежда не обманет, он тут же упомянет Руссо.
Если сопоставить «Исповедь» Руссо с исповедью Печорина, то обнаружится общий механизм, будоражащий и там и тут воображение доверчивого читателя. Механизм этот замаскирован «в искренности тех, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки». Подобная «искренность» часто идет немногим дальше преследуемой цели казаться искренностью без кавычек. Чем больше пороков припишет себе исповедующийся, тем несомненнее будет представляться его «искренность». Не говоря уже о том, что она подчас диктуется своей противоположностью. Добиться в исповеди абсолютной искренности невозможно уже в силу объективного свойства нашей памяти, склонной к известной аберрации и избирательности. Поэтому судить о человеке, опираясь на его высказывания о себе, следует крайне осторожно, чтобы не попасть впросак, как попал Н. Котляревский, обвинив Лермонтова в том, что он «был не скромен, когда говорил о своем призвании».
Не только Лермонтов, не избежал слепой хулы и Лев Толстой, испытавший на себе его мощное влияние. Вот один из «автобиографических» героев Толстого: «В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один - духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других люден, и другой - животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира». Здесь явно слышны звуки из печоринской исповеди: «Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его». На Толстого произвела «огромное впечатление» и «Исповедь» французского писателя. Он совсем не случайно сказал о Руссо: «Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам». Толстой даже превзошел Руссо - в чем он только не обвинял себя в своих записях! Защищая Толстого от него же самого и его хулителей, Бунин замечательно отметил: «Исповеди, дневники... Все-таки надо уметь читать их. «Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... не было преступления, которого я бы не совершил....» Баснословный злодей!»
Не такой ли «злодей» и Печорин? «С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя».
Кто он? Праздный соглядатай чужих бедствий или сочувствующий тяготам простых людей? Циник, разрушающий счастье встречных, или страдалец по их милости? Лжец или правдолюбец?.. В Печорине все можно найти, но и обратное этому всему. Так он задуман. Так Печорин и сам думает о себе: «Одни скажут: он был добрый малый, другие - мерзавец!.. И то и другое будет ложно». Однако не будем уподобляться читателям, возмутившим Лермонтова своей «несчастной доверчивостью», а сопоставим кажущиеся противоречия, чтобы приблизиться к истинному портрету Печорина, каким он получился в романе.
Подобно «Исповеди» Руссо, «Журнал» Печорина напоминает плутовской роман в его разнообразии характеров и положений с обязательными любовными похождениями, острыми и неожиданными ситуациями, частой переменой мест, описанием молодости, предоставленной самой себе, наивной восторженности, сменяющейся разочарованием в светском обществе и постижением лукавой простоты «детей природы».
В «Тамани» мы застаем Печорина уже познавшим пустоту светского общества. Настроенный скептически, он оттаивает душой среди экзотической природы и людей весьма романтического промысла. Прирожденная любознательность толкает его к контрабандистам, ведет к наивной интриге, чуть не обернувшейся личной трагедией. В награду за риск ему открывается изнанка авантюрного существования контрабандистов. К ней он и привлекает внимание, высекая искру глубокого сострадания. Ударом по голове падают слова Янко - «старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит». «А я?» - сказал слепой жалобным голосом. «На что мне тебя? - был ответ». И дальше Печорин пишет: «Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание; слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно».
Так чему верить? Естественному проявлению души или головной декларации: «Что сталось с старухой и с бедным слепым - не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих...»? А между тем именно последняя мысль и разворачивается в «Княжне Мери», принимая к тому же еще более мрачный оттенок.
Печорин очень молод. Между ним и Наташей Ростовой, любующейся своим отражением в зеркале, та лишь разница, что девушку влекут женственные, а юношу черты сильного мужчины. И сколько бы ни одаривал нас Печорин доказательствами своего богатого жизненного опыта - за ними открывается теория, а не практика: «Может быть,- подумал я,- ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...» В зрелые годы Печорин сказал бы, что женщина всегда любит за радости и никогда - за печали. Мы читаем отточенные фразы «о удовольствии мучить другого» - и под гипнозом безупречной формы их выражения принимаем мираж за отражение души Печорина. Его «слабости и пороки» сыплются на нас как из рога изобилия. Вот он, счастливый тем, что ему удалось часть вечера провести возле Веры, дивуется: «За что она меня так любит, право, не знаю! - Тем более что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..»
Настроенным на волну «искренности того, кто так беспощадно выставляет наружу собственные слабости и пороки», не просто заметить, что тут поза, рисовка молодого человека, и не более. Нужно застать его врасплох, без маски. «...За что они все меня ненавидят? - думал я.- За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» Это говорит Печорин, ошеломленный внезапно открывшимся заговором против его чести. Тут уж не до бравады.
Легкоранимый, он нашел способ самозащиты от грушницких и той простоты, что хуже воровства, в цинизме. И с этим ничего не поделаешь. Сам Лермонтов предпочитал цинизм лицемерию, как горькую правду сладкой лжи. Конечно, цинизм Печорина может и возмущать. Вкрадчиво склоняет он Веру к супружеской неверности. Но разве справедлива история убогого старика, летами пригодного в дедушки своей жене? А Печорин любит Веру и хочет делить с ней молодую радость. Блюстители строгой морали могут спросить: так отчего ему было не жениться на Вере и любить ее, так сказать, на законных основаниях? У Печорина омерзение к «христианскому» браку по образцу брака его возлюбленной. Что же касается его личного бегства от женитьбы, то оно имеет не этическую, а чисто психологическую причину, обусловленную мнительностью Печорина: «Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко поразило: в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе...»
Та же гадалка удержала Печорина и в минуту, когда он был готов упасть к ногам Мери. Они оба затеяли игру в ненависть, и оба, как бывает в подобных случаях, проиграли ее. (Что Печорин влюбился в Мери, не сомневается и Вера, которая его «поняла совершенно»).
Шаг за шагом выясняется, что самообвинение Печорина в неисчислимых пороках - синдром гипертрофированной совести могучего человека, принужденного обстоятельствами расточать огромные потенции в пустом времяпрепровождении и любовных похождениях. Не изменяется ситуация и в «Фаталисте», где Печорину привелось совершить общественно полезный поступок, заслуживающий упоминания в разделе уголовной хроники. Он так и не нашел достойного приложения своей клокочущей энергии, потому что время оказалось не соответствующим высокой цели.
Если снять грим с Печорина, то его образ обнаружит несколько идеализированные черты, в чем сказалось поклонение Лермонтова избранным, кто остался верен свободолюбивому духу декабристов.
6 июня исполняется 215 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. О нем сложно сказать короче и яснее, чем это сделал поэт и критик Аполлон Григорьев: "Пушкин - наше все". А о гении Пушкина написано огромное количество трудов.
По воспоминаниям современников Пушкина, поэт был небольшого роста, а черты лица - неправильными. "Да и прибавьте к этому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти, как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин", - из воспоминаний возлюбленной Пушкина Анны Олениной. Одной из странностей поэта была стрельба из пистолета в стену, когда он голым лежал в постели.
сайт попытался восстановить образ Александра Пушкина на основе записок и дневников его современников - друзей, бывших возлюбленных и литературных критиков.
Ксенофонт Полевой, литературный критик

Ксенофонт Полевой
Ксенофонт Полевой познакомился с Пушкиным в доме своего брата Николая Полевого. В своих "Записках" критик рассказывает о встречах с Пушкиным в Москве и Петербурге, подчеркивая, что расхождения поэта и братьев Полевых было определено принадлежностью к разным сословиям.
"Перед конторкой стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими нижнюю часть его щек и подбородка, с кучею кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось...
Прошло еще несколько дней, когда однажды утром я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской в доме князя Гагарина... Там занимал он довольно грязный нумер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставал его потом утром в Москве и Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом."
Если говорить о внешности, сам поэт характеризовал себя в юношеском французском стихотворении Mon portrait "Лицом настоящая обезьяна". А в вопросах любви Пушкин разбирался, пожалуй, не хуже, чем в поэзии, о чем говорят записи его муз и товарищей.
Филипп Вигель, мемуарист

Филипп Вигель
Знаменитый мемуарист "Филиппушка", как называли его близкие, написал популярные в XIX веке "Записки", рассказывающие об истории русского быта и нравов первой половины XIX века. Также в них описаны характеристики видных деятелей того времени. Состоял в дружеской переписке с Жуковским и был коротко знаком с Пушкиным.
"...На выпуск молодого Пушкина смотрели члены "Арзамаса" как на счастливое для них происшествие, как на торжество… Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата… Я не спросил тогда, за что его назвали "Сверчком"; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос… Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте..."
Позднее Вигель высказывался и о бурной жизни писателя: "...Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен... Сие кипучее существо в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в ее наслаждения…"
Стоит отметить, что одно из посланий к Вигелю Пушкин завершил шутливыми строчками, намекающими на гомосексуальные склонности того: "Лишь только будет мне досуг, // Явлюся я перед тобою; // Тебе служить я буду рад - Стихами, прозой, всей душою, // Но, Вигель, - пощади мой зад!"
Сергей Комовский, статский советник

Сергей Комовский
Сергей Комовский был лицейским одноклассником и товарищем Пушкина. Комовский не участвовал в литературном кружке однокурсников, однако вел дневник, маленькую тетрадку в 24 листа. Одно из своих прозвищ - "Смола" - он получил от товарищей за назойливое приставание с нравоучениями.
"Пушкин любил приносить жертвы Бахусу и Венере" - волочился за хорошенькими актрисами графа Толстого, причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской природы. Пушкин был до того женолюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна."
Анна Оленина, музыкантша и певица

Анна Оленина
Дочь президента Петербургской Академии художеств была возлюбленной Пушкина. Знакомство с Пушкиным произошло в доме Олениных, который был центром литературной и художественной жизни Петербурга. Анна - адресат стихотворений Пушкина "Ее глаза", "Пустое Вы сердечным ты…", "Не пой красавица при мне", а также многих строф "Онегина".
"Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его... странность нрава природного и принужденного и неограниченное самолюбие - вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия."
Дарья Фикельмон, внучка Кутузова

Дарья Фикельмон
Знакомство Фикельмон и Пушкина состоялось в доме ее мужа, австрийского посланника Карла Фикельмона. С Дарьей поэта связывали дружеские отношения, однако существует версия, оспариваемая большинством исследователей, что у Дарьи был роман с Пушкиным. В ее "светском дневнике" есть записи, касающиеся Пушкина и его жены, и подробный отчет о дуэли и смерти Пушкина.
"Невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде". Когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, его разговор так интересен, сверкающий умом, без всякого педантства… Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться."
Мария Волконская

Мария Волконская
Мария Волконская была дочерью Николая Раевского, женой декабриста Сергея Волконского. Пушкин познакомился с ней через семью Раевских. Особенно он сдружился с семьей в поездке на Кавказские Минеральные Воды, во время своей южной ссылки. Поэт находился на водах вместе с Раевскими два месяца, с ними же уехал в Крым.
"...Как поэт он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался… В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел..."
Владимир Горчаков, квартирмейстер

Владимир Горчаков. Рисунок Пушкина на черновике "Романа в письмах"
Владимир Горчаков был воспитанником Муравьевского училища. В Кишиневе он принадлежал к числу ближайших друзей Пушкина и ценителей его творчества. Пушкин посвятил ему стихотворение "Вчера был день разлуки шумной...".
"В числе многих особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу? Пушкин беспрерывно краснел и смеялся."
Карл Брюллов, художник

Карл Брюллов
Брюллов познакомился с Пушкиным по возвращении из Италии в Россию. Причем в Москве в честь приезда Брюллова устраивали торжественные приемы. На одном из таких вечеров и произошло их знакомство. Неудивительно, что художник запомнил писателя жизнерадостным.
"Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны."
Александр Вельтман, писатель

Александр Вельтман
В период службы в Бессарабии Вельтман проникся оппозиционными настроениями. Повлияли на него близкие друзья, будущие декабристы Владимир Раевский, Михаил Орлов и Петр Фаленберг. Тогда же Вельтман познакомился с сосланным в Кишенев Александром Пушкиным. Из "Воспоминаний о Бессарабии":
"...в 1822 году было сильное землетрясение в Кишиневе; стены дома треснули, раздались в нескольких местах; генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже. Тогда в Пушкине было еще несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длиннее ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену."
Лев Пушкин, младший брат поэта

Лев Пушкин. Карандашный рисунок Александра Орловского
Лев был литературным секретарем поэта, боевым офицером, участником персидских войн и кавалером российских орденов. Общение Пушкина с братом продолжалось всю жизнь поэта.
"Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевленно; ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив… Редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-нибудь, близком его душе. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда ни касался до сего предмета."
Алексей Вульф, мемуарист

Алексей Вульф
Будучи приятелем и соседом Пушкина по имению, Алексей вместе с ним обсуждал создающиеся сцены "Бориса Годунова" и главы "Евгения Онегина". Вел дневники, в которых описаны его встречи с Пушкиным.
"Пушкин говорит очень хорошо; пылкий, проницательный ум обнимает быстро предметы; но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро: женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного."
рассказы о Пушкине, записанные Михаилом Семевским
"…вскоре по выпуске из Лицея Пушкин встретился с одним из своих приятелей, капитаном л.-гв. Измайловского полка. Капитан пригласил поэта зайти к знаменитой в то время в Петербурге какой-то гадальщице… Поглядела она руку Пушкина и заметила, что черты, образующие фигуру, известную в хиромантии под именем стола, обыкновенно сходящиеся к одной стороне ладони, у Пушкина оказались совершенно друг другу параллельными... Ворожея внимательно и долго их рассматривала и наконец объявила, что владелец этой ладони умрет насильственной смертью, его убьет из-за женщины белокурый молодой мужчина...
Пушкин до такой степени верил в зловещее пророчество ворожеи, что когда, впоследствии, готовясь к дуэли с известным американцем графом Толстым, стрелял вместе со мною в цель, то не раз повторял: "Этот меня не убьет, а убьет белокурый, так колдунья пророчила", - и точно, Дантес был белокур…"
В феврале того же года он пишет Тимофею Васильевичу: «Украинская нам торговля, кажется, совсем бесполезна, ибо производство там малое, а расходы большие. Вот Крещенская ярмарка торговала на 28 тысяч, и это еще не худо, а расхода, исключая жалованья приказчикам, до 1 000 рублей, также и в кредит тоже на 7 000 рублей там отпускает. Итак, если все счесть, то на круг копеек 10 на рубль расходов лишнего ляжет, а цены и 2 копейки в рубле против московских разницы не имеют.
Да теперь братец Иван Васильевич занялся хозяйственно ткацкою фабрикою, и украинская часть как бы в чужих руках. Итак, не посоветуете ли, окончив сборную ярмарку, вместе с приказчиками товар в Москву возвратить. Поверьте, так сделать будет полезнее и дело пойдет аккуратнее». И торговля в Украине прекращается. В это время общее руководство всем предприятием переходит в руки Якова Васильевича, влияние которого в семье все возрастало, несмотря на то, что он был самым младшим ее представителем. Чтобы свободно можно посвятить свою жизнь, свои знания, приобретенное состояние делу, которое стало близко сердцу, Тимофей Васильевич решил отделиться от братьев и пойти своей дорогой.
По своим воззрениям и складу ума Тимофей Васильевич является столь крупною личностью, что его биография, написанная о. И. Благовещенским, помещалась в школьных хрестоматиях. Тимофей Васильевич Прохоров принадлежал к разряду идейных общественных тружеников, о которых в потомстве долго хранится добрая память. Те убеждения, которые были заложены в Тимофее Васильевиче семейным воспитанием, основанным на религиозно-нравственных правилах, оставались руководящими началами в нем всю его жизнь. В своем рассуждении «О богатении» он приводит ту мысль, что богатство допустимо иметь только в том случае, если оно употребляется на помощь обездоленным или способствует тем или иным путем духовно-нравственному совершенствованию людей. Хотя эта мысль определенно была высказана и в зрелом уже возрасте, но зарождение ее, вне всякого сомнения, относилось к первым шагам его деятельности.
Учреждение фабрично-ремесленного училища в 1816 году, имевшего целью поднять уровень фабричных мастеровых, постоянная забота о развитии этого дела на пользу отечественной промышленности — разве это не живое воплощение высказанных мыслей? Все хорошие мысли и добрые стремления у Тимофея Васильевича в жизни всегда приводились в живую действительность. В 19-20 лет Тимофей Васильевич был уже человеком со сложившимся характером и определившимися наклонностями. Ко всякому делу, за какое бы он ни брался, он относился серьезно и вдумчиво. Это резко его выделяло из ряда сверстников по возрасту и положению; его высокие нравственные и умственные качества были у всех на виду.
Именитое московское купечество его, еще не вышедшего из юношеского возраста, принимало в свою среду как зрелого человека. Что же касается местного населения Пресненской окраины, то среди него он пользовался большим уважением. Уже в 1817 году, несмотря на 20-летний возраст, Тимофей Васильевич единодушно избирается в словесные судьи при местном частном доме. Жители Пресни не ошиблись. Как судья, он серьезно, с сознанием высокого гражданского долга, относился к возложенным на него обязанностям. Преследуя одну мысль — дать торжество справедливости — он добросовестно вникал в каждое дело, благодаря чему нередко приходил в столкновение с полицейскими чиновниками. Решительный и настойчивый, он особенное внимание обратил на ускорение решения дел, в особенности тех, которые до него еще лежали под сукном.
Это сделало его популярным среди обывателей; говорили, что у них такого судьи никогда не было. Отличительной чертой характера Тимофея Васильевича была наблюдательность, жажда знания и страсть основательно знакомиться с каждым вопросом. Где бы он ни был, что бы ни видел — все его интересовало, все он хотел изучить, перенять. Он был значительно просвещеннее своего отца: в кругу его чтения, кроме литературы религиозной, отводилось и много места литературе светской — он читал Посошкова, французских и немецких экономистов, интересовался и вопросами философскими… Познания его были обширны и разносторонни. Но при всем этом Тимофей Васильевич оставался глубокорелигиозным человеком, строго хранившим веру и заветы своих отцов. Одаренный пылкой фантазией, он всегда обдумывал какие-нибудь проекты и стремился их осуществить. Родные и близкие часто советовали ему, ради сохранения здоровья, охладить свое рвение к учению, к всевозможным хлопотам и заботам, но он оставался до самой старости таким, как был. «Мне часто говорили старшие: Тимоша, не слишком изнуряй себя хлопотами и заботами, побереги свое здоровье: потерявши его, не воротишь. Но я всегда был отягощен исполнением необузданных обещаний и захватов.
С раннего возраста невозможного исполнить для меня не существовало». Священник И. Благовещенский, долголетний сотрудник, друг и духовник Тимофея Васильевича, говорит о нем следующее: «Обладая пылким и проницательным умом, он живо сознавал многие нужды нашего общества, и в особенности, торгового сословия, и в разговорах нередко удивлял своих собеседников обилием глубоких и светлых мыслей. Желая, чтобы добрая мысль скорее переходила в дело, он любил распространять и утверждать ее в других людях и составлял разные проекты для пользы общества, каковы, например, проекты для развития торговли и для распространения народного образования, для улучшения быта духовенства и усиления его влияния на народ и прочее.
Дар слова был у него неистощимый. О всяком предмете, ему известном, он без всякого приготовления мог говорить час и более, не останавливаясь. Он, можно сказать, говорил для себя или думал вслух, а так как говорил всегда с убеждением, то очень часто к концу беседы убеждение его невольно сообщалось и его слушателям. Предметами для своих бесед Тимофей Васильевич избирал или нравственность и обязанности христианские, или практическое хозяйство, или искусства, ремесла и торговлю, или общие правила нравственности в их применении к частным обстоятельствам жизни. В беседах со своими учениками и мастеровыми он всегда старался говорить о том, что знать для них особенно нужно, — о честном труде, об удалении от пьянства, об опрятности в одежде, пище и жилищах, о благопристойности поведения и в доме и на улицах, о милосердии к животным домашним и тому подобное. Всякий случай сколько-нибудь замечательный давал повод Тимофею Васильевичу для того, чтобы сказать несколько добрых слов мастеровым и ученикам школы. Например, наступал ли церковный праздник, — он рассказывал им историю праздника или давал наставление, как проводить время, свободное от работ. Умирал ли кто из известных лиц в столице или где-либо — опять в свободные часы Тимофей Васильевич собирал всех и говорил о качествах и действиях умершего, из его жизни выводил полезные уроки или приглашал к молитве о нем и вообще к поминовению усопших. Сгорел московский театр, — Тимофей Васильевич, случайно бывший на пожаре, по возвращении в дом, собрал всех и, описывая бедствия, указал на самоотвержение тех, которые старались прекратить пожар, на безрассудство праздных зрителей; потом перешел мыслью к пожарам вообще и внушал, как осторожно надобно обращаться с огнем и как должно строить дома, особенно в селах, чтобы пожары не истребляли целых улиц и селений.
По возвращении из своих поездок в другие города или за границу Тимофей Васильевич приглашал к себе учеников и мастеровых для свидания и рассказывал им случаи, с ним бывшие, и все в каком-либо отношении для них занимательное и полезное». Вообще речи Тимофея Васильевича, по-видимому, были красноречивы и убедительны; его с интересом слушали не только простой народ и лица собственного круга, но и студенты высших учебных заведений. Вот что пишет г. Ярцев в своей статье «Первые фабричные театры в России» (Историч. вестн. 1900 г., май): «На одной из подмосковных фабрик мне случилось встретить почтенного старца-технолога, который через полвека вспоминал, с каким интересом они, тогдашние ученики технологического института, слушали обращенные к ним речи посетившего институт Прохорова». Чтобы не быть стесненным в своих действиях, Тимофей Васильевич, с согласия матери и других родственников своих, в 1833 году отделился от братьев. Неудача с учреждением в Москве технологического училища не остановила Тимофея Васильевича от следования по намеченному им пути. В том же году на Швивой Горке он купил обширный дом, некогда принадлежавший баронам Строгановым. Здесь он решил основать нечто особенное, небывалое — фабрику-школу
Это учреждение настолько оригинально и замечательно, что никак нельзя обойти его молчанием. На основании огромного запаса сведений по вопросу постановки технического образования, которые накопились у Тимофея Васильевича за его 20-летнюю практическую деятельность, и на основании тех наблюдений, которые он сделал за границей, в его уме создался тип учебно-промышленной фабрики, к устройству которой он немедленно и приступил. В мыслях Тимофея Васильевича ясно нарисован был план занятий в его техническом заведении: обучение мастерствам и учебным предметам как общеобразовательным, так и специальным, распределялось так, чтобы дети московских мещан из учеников делались бы мастеровыми, из мастеровых настоящими мастерами и учителями мастерства. В мае началась перестройка Строгановского дома согласно намеченным целям, а в сентябре уже было открыто и само мануфактурное производство.
В доме, кроме комнат для хозяина, были устроены учебные мастерские, классы для учебных занятий, отдельные спальни как для учеников, так и для мастеровых, помещения для приказчиков, конторы и товаров. Все это было устроено так, чтобы хозяин мог в несколько минут обозреть все части своего учреждения. Кроме того, было составлено обширное зало, в котором должны были собираться все ученики и рабочие для бесед или для чтения книг духовно-нравственного содержания. Беседы эти велись с благословения митрополита Филарета приходским священником, а иногда вел их и сам Тимофей Васильевич. Тут же производились беседы и чтения по вопросам, касающимся мануфактурной промышленности. Для начала дела Тимофей Васильевич с фабрики братьев взял несколько хороших мастеровых и учеников из старой своей школы. С вновь принятыми количество учеников достигало значительного числа — их было до 50 человек. Как все это для начала ни было хорошо, но все же тут задуманное Тимофеем Васильевичем далеко не исчерпывалось.
Его планы были много шире, но тех средств, хотя и очень больших (у него было до 500 000 рублей ассигнациями), все же было далеко не достаточно. Нанимая к себе на фабрику ткачей, набойщиков, рисовальщиков, колористов и других мастеров и мастеровых, Тимофей Васильевич заключал с каждым из них договор, в силу которого этим лицам вменялось в обязанность обучать детей мастерствам и быть для них примером в поведении и усердии к работе. Каждый из них обязывался не употреблять бранных слов, не заводить безнравственных разговоров, не допускать грубого обращения. Безграмотный должен был посещать школу. Мастеровых Тимофей Васильевич нанимал на год, а не сдельно, как это велось на всех фабриках, с тою целью, чтобы работы исполнялись неспешно, чтобы рабочие не имели никакого повода отказываться от учения или посещения устраиваемых для них собеседований. Что же касается самой школы, то она не имела характера проектированного Тимофеем Васильевичем технологического училища, но в то же время совсем не походила и на промышленное заведение.
Тут, прежде всего, определялись способности и природные склонности ребенка к тому или другому ремеслу, а затем давались ему посильные работы, входящие в цикл данного ремесла или производства. Физический труд детей чередовался с трудом умственным: мальчики не менее 2-3 часов в день занимались в классах, обучаясь чтению, письму, арифметике, выкладкам на счетах и рисованию линейному (черчению) и узорному. Практические занятия учеников состояли в изучении всех мастерств, которые имели применение в мануфактурном деле. Одни из учеников занимались резным искусством по дереву и металлу, другие обучались набойщицкому мастерству, третьи — ткацкому делу. Некоторые обучались даже мастерствам, далеким от мануфактурного дела, как-то: слесарному, столярному, плотничному и даже сапожному и портновскому. Знания и умения технического характера человеку даются не сразу, а приобретаются они и усваиваются от постоянного и долговременного упражнения в одном и том же деле; первые два, а иногда и три года ученик-подросток только приглядывается, приспосабливается к делу, проходя предварительные стадии в своем мастерстве.
Поэтому, чтобы не выпускать от себя недоучек, Тимофей Васильевич, принимая учеников, заключал с их родителями контракты на 4-5 лет. В школе-фабрике Тимофея Васильевича знания учащимися усваивались не механически лишь, а сознательно. Через 5-6 лет Тимофей Васильевич располагал хорошим штатом мастеров и мастеровых по всем частям своего производства, и он достиг того, что ни по фабрике, ни по школе, ни по торговле у него не принималось ни одного стороннего работника. Порядок, тишина и миролюбие среди рабочих фабрики были идеально хороши, даже взятые со стороны мастеровые вскоре изменялись к лучшему. Если в ком-либо из учеников Тимофей Васильевич замечал особые способности и усердие, то в поощрение этого назначал тому приказчичье жалованье, доходившее до 200 рублей в год при готовом и улучшенном содержании.
Причем тем из них, которые стремились к высшему образованию, он всячески помогал преодолеть всякие трудности на этом пути, приглашая к ним на собственный счет учителей по разным отраслям знаний: по математике, словесности, бухгалтерии, немецкому языку, музыке и пению. Поставленная таким образом фабрика-школа если и не могла всецело конкурировать с лучшими фабриками своего времени в качестве своих товаров, зато внутренний ее строй, отношение хозяина к фабричным рабочим и теперь поставили бы Тимофея Васильевича в ряды передовых и просвещеннейших людей, тогда же, 70-85 лет тому назад, это было явлением необыкновенным, так как закона, который регулировал бы отношение фабрикантов и рабочих, не существовало. Несомненно, Тимофей Васильевич достиг бы своей цели — иметь образцовое учебно-промышленное учреждение, если бы тому не помешал промышленный застой конца тридцатых и начала сороковых годов. Вот как сам Тимофей Васильевич изображает свое тогдашнее положение: «С 1836 года, когда капитал наш по инвентариуму, за расплатою долгов, простирался за шестьсот тысяч рублей ассигнациями, я рвался отстать от промышленных дел, но как мне недоставало решительности исполнить предполагаемое, снова вдавался в обороты и связи, и потом — то неурожай хлеба, то уничтожение лажа на ассигнации, то неудачная продажа товаров — истощали последние мои выгоды и приводили меня в большое отягощение…
Несмотря на неудачи, я не переставал соревновать сверстникам своим, и не только не уменьшал производства, но умножал оное: строил, арендовал фабрики и проч. Ревность не пособила мне умножить моего капитала, а неудачи расстроили мое здоровье до исступления». Действительно, Тимофей Васильевич в это время сверх своих сил разбрасывался: у него, кроме бумагошелкоткацкой и ситценабивной фабрик в Таганском доме, были ткацкие фабрики в Сетуни (в 10-12 верстах от Москвы) и близ Ново-Спасского монастыря. «Товар мой фабричный терял репутацию, главным образом, от худых, неопытно покупаемых материалов,- с грустью замечает Тимофей Васильевич в одном из своих писем к брату,- долги вянут, и капитал быстро падает». Просветительная деятельность Тимофея Васильевича с братьями не могла укрыться от внимания таких государственных людей, каким был тогдашний министр финансов граф Е. Ф. Канкрин.
В 1835 году была в Москве выставка мануфактурных изделий, на которой участвовали обе фирмы Прохоровых. Государь Николай Павлович обратил особенное свое внимание на братьев Прохоровых и лично удостоил их своей благодарности за учреждение школ и за попечение о нравственности рабочих на фабриках. На другой день император, пригласив в Николаевский дворец купцов, принимавших участие в выставке, благодарил их за усовершенствование в русской промышленности; при этом вызвал братьев Прохоровых и еще раз «удостоил всемилостевейшей благодарности в самых лестных выражениях, — говорит св. Благовещенский, — поставил их в пример всему обществу, говоря, что должно заботиться не о своих только выгодах, но и о благосостоянии и доброй нравственности народа». Такое признание со стороны монарха заслуг в деятельности Тимофея Васильевича с братьями по улучшению быта рабочих было принято ими «со слезами сыновней признательности». «Я вполне, — говорит Тимофей Васильевич, — награжден милостивым внимание государя и восхищен столь высоким одобрением моих действий; высшим для меня утешением, высшею радостью служит надежда, что слово царя подействует на общество купеческое и возбудит в нем заботливость о заведении школ для народа». Вскоре после выставки Тимофей Васильевич получил звание Мануфактур-Советника.
В деле духовно-нравственного просвещения народа Тимофей Васильевич старался использовать все пути, к тому ведущие: он призывал духовенство к проповеди Слова Божия с церковной кафедры, устраивал сам школы для народа, привлекал к тому других, учреждал библиотеки, читальни, народные чтения-собеседования и, наконец, был первым в России устроителем фабричного театра. Вот что об этом пишет г. Ярцев в выше цитированной статье: «Как человек просвещенный, Прохоров не мог не понимать великого значения театра, как средства для „улучшения народной нравственности“. Из этого желания укрепить в фабричных нравственное начало и просветить их и исходило, без сомнения, намерение Прохорова устроить фабричные спектакли. Сведения, приводимые мною, сохранились в семейных преданиях Прохоровых. Я слышал рассказ о фабричном театре Прохорова от одного из последующих владельцев Трехгорной мануфактуры, недавно скончавшегося С. И. Прохорова, который был главным руководителем современного театра на своей фабрике. Кое-что помнят и старики из фабричных служащих.
Начало спектаклей на Прохоровской фабрике, организованных Тимофеем Васильевичем, относится к 1820-м годам. Сцена была приспособлена в одном из фабричных помещений, исполнителями выступали ученики из фабричной школы. Душой этого дела был, конечно, сам Прохоров. Он, по рассказам фабричных того времени, сам следил за подготовкой актеров к представлению. Один из участников тогдашних спектаклей вспоминал, как хозяин, когда разыгрывали „Недоросля“, указывал ему на неправильности в его игре и все говорил: „логики, логики у тебя нет“. Мать Прохорова также принимала посильное участие в устройстве спектаклей и шила, между прочим, костюмы для актеров. Спектакли продолжались и в 30-х, и в 40-х годах, но подробности о них мне, к сожалению, не удалось узнать, да вряд ли они кому и известны»… Заканчивая свою статью, г. Ярцев говорит: «Историей русского просвещения не должны быть забыты и имена Волкова, Прохорова и Дмитриева, как начинателей, в разное время и при разных условиях, в деле применения сцены к просветительному влиянию на рабочую массу». Следующий период в жизни мануфактуры был переломом в ее производстве.
В 1839 году фабрика выработала собственных миткалевых ситцев около 8 тысяч кусков, а в 1842 году на собственной фабрике их было изготовлено менее четверти этого количества. Расширявшиеся торговые обороты требовали большого количества более доступного по цене товара, чем тот, который производили набойщики на Трех Горах; приходилось с каждым годом увеличивать заказы машинных ситцев по собственным миткалям или приобретать их из вторых-третьих рук. В ноябре 1840 года Яков Васильевич писал одному из своих покупателей и комиссионеров Е. Н. Дрябину: «Мы отдавали свои миткали Битепажу под набивку ситцев, но пользы никакой не учитываем». Что же касается второй отрасли производства — ткачества, то тут дела обстояли много хуже. Наводнение русских рынков английскою пряжею подняло кустарное ручное ткачество по деревням до невероятных размеров. Производство миткалей, отчасти и других хлопчатобумажных тканей, вследствии конкуренции кустарей, в городе стало делом совсем безвыгодным. Начавшее нарождаться механическое ткачество хлопчатобумажных тканей по условиям того времени, о чем будет сказано ниже, завести в Москве не представлялось возможным. Братьям Прохоровым приходилось или оставить насиженное в Москве место, бросить заведенное здесь и устроенное дело и переселиться со всем своим производством в провинцию, или же в пределах возможного расширить ситце- и платочнонабивное дело.
Было решено пожертвовать ткацким делом, отвести ему второстепенное место в производстве. Хотя в это время платки, шали, покрывала и шлафры и составляли /. всего фабричного производства, но братья Прохоровы ясно видели, что дальнейшее развитие их производства в этом направлении в будущем не открывает широких перспектив и что пора и им начать производство ситцев механическим путем. В 1841 году на «Нижнем дворе» был выстроен новый каменный фабричный корпус, а вскоре же началось и постепенное оборудование его и других частей фабрики для нового дела. Усиленные постройки продолжались и в следующем году, так было выстроено еще два каменных корпуса, в три и четыре этажа, кубовая красильня в три этажа (низ каменный), кухня и спальня. В один этот год на строительные надобности было израсходовано более 165 тысяч рублей серебром, что по тому времени составляло громадную сумму. В этом же году началось усиленное оборудование фабрики: из Бельгии было получено два паровых котла, а с завода Шепелева — первая на фабрике паровая машина.
Вопрос о паровой машине решался довольно долго; вначале предполагалось приобрести ее через английскую комиссионерскую контору в Петрограде Ивана Бука. Но, очевидно, высокая цена, которую просил Бук, и дальний срок доставки машины заставили Прохоровых остановиться на машине русского завода. 28 марта 1842 года Яков Васильевич писал конторе Бука: «Извините, на письмо Ваше от 12 с. м. ответом запоздали: причиною того то, что мы все думали решиться кончить Вашу машину, но ныне уже оную кончили на заводе Шепелева, а поэтому Ваша нам ненадобна». Одновременно с постановкою котлов и паровой машины шла постановка и оборудование ситцепечатного отделения сначала на одну трехколерную машину. Вследствие задержки печатных валов, выписанных из Англии через контору Бука, первая партия собственных машинных ситцев не могла появиться раньше конца 1842 года.
В марте Яков Васильевич писал Буку: «Насчет заказанных Вам 6 валов английских медных мы недоумеваем: как Вам сделать залог в оных на 5 300 рублей ассигнациями, когда мы с Вами только в первый раз это дело начинаем и не знаем, каковы оные будут готовыми? В таком случае не решаемся иначе Вам платить, когда увидим на оных выпечатанные образцы. А что касается до верности заказа, то Вы имеете от нас записку, а в подобных обстоятельствах нам доверяют, нашему честному слову, и еще никто от нас не имел в оном неприятностей. Итак, мы желаем, только бы с Вашей стороны было все исправно соблюдено, а от нас противного не встретите». 10 июня Яков Васильевич напоминает Буку: «Очень жалеем, что Вы не сдержали аккуратно Вашего слова, доставить валы в мае месяце, потому мы сколько-либо успели за лето на оных сработать на Нижегородскую ярмарку». 7 ноября Я. В. писал П. А. Быковскому: «Мы теперь устанавливаем машины и начинаем работать ситцы; я полагаю, что в Ирбите будем оных производить довольно». Но, очевидно, новое дело не сразу наладилось, так как лишь в январе следующего 1843 года Яков Васильевич решился уведомить своих покупателей о начале выработки им собственных машинных ситцев. «У нас теперь стали выходить машинные ситцы довольно хорошо, — пишет он покупателю из Украины, — и продаем недорого, коими могу Вам рекомендоваться и прошу быть оных покупателями».
Отправляя в Петроград Угрюмову 50 кусков собственных ситцев по 85 копеек ассигнациями (24 копейки серебром) за аршин, Яков Васильевич замечает: «Товарец хорош, цена не высока, просим Вас нам заметить, как оный в Вашем месте будет принят, а на будущее время у нас будет и рисуночков, и цветов поболее». Приказчику в Ирбите — «при начатии работы нами ситцев, просим благоразумно вникнуть и передать нам требования оных, как манеров, так и сортов». За постановкою печатной машины для выработки ходовых ситцев последовала постановка и двух перротин, могущих заменить каждая несколько десятков набойщиков. Теперь, располагая печатной машиной и двумя перротинами, применяя к работе на фабрике пар и паровую машину, братья Прохоровы уже имели возможность во всякое время значительно увеличить свое производство.
Чтобы свободно можно посвятить свою жизнь, свои знания, приобретенное состояние делу, которое стало близко сердцу, Тимофеи Васильевич решил отделиться от братьев и пойти своей дорогой. По своим воззрениям и складу ума Тимофей Васильевич является столь крупною личностью, что то биография, написанная о. И. Благовещенским, помещалась в школьных хрестоматиях (Хрестоматия Сухотина и Дмитриевского, издание 1862 года, стр. 117–150).
Тимофей Васильевич Прохоров принадлежал к разряду идейных общественных тружеников, о которых в потомстве долго хранится добрая память.
Те убеждения, которые были заложены в Тимофее Васильевиче семейным воспитанием, основанным на религиозно-нравственных правилах, оставались руководящими началами в нем всю его жизнь. В своем рассуждении "О богатении" он приводит ту мысль, что богатство допустимо иметь только в том случае, если оно употребляется на помощь обездоленным или способствует тем или иным путем духовно-нравственному совершенствованию людей. Хотя эта мысль определенно была высказана и в зрелом уже возрасте, но зарождение ее, вне всякого сомнения, относилось к первым шагам его деятельности. Учреждение фабрично-ремесленного училища в 1816 году, имевшего целью поднять уровень фабричных мастеровых, постоянная забота о развитии этого дела на пользу отечественной промышленности - разве это не живое воплощение высказанных мыслей?
Все хорошие мысли и добрые стремления у Тимофея Васильевича в жизни всегда приводились в живую действительность.
В 19–20 лет Тимофей Васильевич был уже человеком со сложившимся характером и определившимися наклонностями. Ко всякому делу, за какое бы он ни брался, он относился серьезно и вдумчиво. Это резко его выделяло из ряда сверстников по возрасту и положению; его высокие нравственные и умственные качества были у всех на виду. Именитое московское купечество его, еще не вышедшего из юношеского возраста, принимало в свою среду как зрелого человека.
Что же касается местного населения Пресненской окраины, то среди него он пользовался большим уважением. Уже в 1817 году, несмотря на 20-летний возраст, Тимофей Васильевич единодушно избирается в словесные судьи при местном частном доме. Жители Пресни не ошиблись. Как судья, он серьезно, с сознанием высокого гражданского долга, относился к возложенным на него обязанностям. Преследуя одну мысль - дать торжество справедливости - он добросовестно вникал в каждое дело, благодаря чему нередко приходил в столкновение с полицейскими чиновниками. Решительный и настойчивый, он особенное внимание обратил на ускорение решения дел, в особенности тех, которые до него еще лежали под сукном. Это сделало его популярным среди обывателей; говорили, что у них такого судьи никогда не было.
Отличительной чертой характера Тимофея Васильевича была наблюдательность, жажда знания и страсть основательно знакомиться с каждым вопросом. Где бы он ни был, что бы ни видел - все его интересовало, все он хотел изучить, перенять. Он был значительно просвещеннее своего отца: в кругу его чтения, кроме литературы религиозной, отводилось и много места литературе светской - он читал Посошкова, французских и немецких экономистов, интересовался и вопросами философскими… Познания его были обширны и разносторонни. Но при всем этом Тимофей Васильевич оставался глубоко религиозным человеком, строго хранившим веру и заветы своих отцов.
Одаренный пылкой фантазией, он всегда обдумывал какие-нибудь проекты и стремился их осуществить. Родные и близкие часто советовали ему, ради сохранения здоровья, охладить свое рвение к учению, к всевозможным хлопотам и заботам, но он оставался до самой старости таким, как был. "Мне часто говорили старшие: Тимоша, не слишком изнуряй себя хлопотами и заботами, побереги свое здоровье: потерявши его, не воротишь. Но я всегда был отягощен исполнением необузданных обещаний и захватов. С раннего возраста невозможного исполнить для меня не существовало".
Священник И. Благовещенский, долголетний сотрудник, друг и духовник Тимофея Васильевича, говорит о нем следующее: "Обладая пылким и проницательным умом, он живо сознавал многие нужды нашего общества, и в особенности, торгового сословия, и в разговорах нередко удивлял своих собеседников обилием глубоких и светлых мыслей. Желая, чтобы добрая мысль скорее переходила в дело, он любил распространять и утверждать ее в других людях и составлял разные проекты для пользы общества, каковы, например, проекты для развития торговли и для распространения народного образования, для улучшения быта духовенства и усиления его влияния на народ и прочее. Дар слова был у него неистощимый. О всяком предмете, ему известном, он без всякого приготовления мог говорить час и более, не останавливаясь. Он, можно сказать, говорил для себя или думал вслух, а так как говорил всегда с убеждением, то очень часто к концу беседы убеждение его невольно сообщалось и его слушателям. Предметами для своих бесед Тимофей Васильевич избирал или нравственность и обязанности христианские, или практическое хозяйство, или искусства, ремесла и торговлю, или общие правила нравственности в их применении к частным обстоятельствам жизни. В беседах со своими учениками и мастеровыми он всегда старался говорить о том, что знать для них особенно нужно, - о честном труде, об удалении от пьянства, об опрятности в одежде, пище и жилищах, о благопристойности поведения и в доме и на улицах, о милосердии к животным домашним и тому подобное. Всякий случай сколько-нибудь замечательный давал повод Тимофею Васильевичу для того, чтобы сказать несколько добрых слов мастеровым и ученикам школы. Например, наступал ли церковный праздник, - он рассказывал им историю праздника или давал наставление, как проводить время, свободное от работ. Умирал ли кто из известных лиц в столице или где-либо - опять в свободные часы Тимофей Васильевич собирал всех и говорил о качествах и действиях умершего, из его жизни выводил полезные уроки или приглашал к молитве о нем и вообще к поминовению усопших. Сгорел московский театр, - Тимофей Васильевич, случайно бывший на пожаре, по возвращении в дом, собрал всех и, описывая бедствия, указал на самоотвержение тех, которые старались прекратить пожар, на безрассудство праздных зрителей; потом перешел мыслью к пожарам вообще и внушал, как осторожно надобно обращаться с огнем и как должно строить дома, особенно в селах, чтобы пожары не истребляли целых улиц и селений. По возвращении из своих поездок в другие города или за границу Тимофей Васильевич приглашал к себе учеников и мастеровых для свидания и рассказывал им случаи, с ним бывшие, и все в каком-либо отношении для них занимательное и полезное". Вообще речи Тимофея Васильевича, по-видимому, были красноречивы и убедительны; его с интересом слушали не только простой народ и лица собственного круга, но и студенты высших учебных заведений. Вот что пишет г. Ярцев в своей статье "Первые фабричные театры в России" (Историч. вестн. 1900 г., май): "На одной из подмосковных фабрик мне случилось встретить почтенного старца-технолога, который через полвека вспоминал, с каким интересом они, тогдашние ученики технологического института, слушали обращенные к ним речи посетившего институт Прохорова".
Чтобы не быть стесненным в своих действиях, Тимофей Васильевич, с согласия матери и других родственников своих, в 1833 году отделился от братьев.
Неудача с учреждением в Москве технологического училища не остановила Тимофея Васильевича от следования по намеченному им пути. В том же году на Швивой Горке он купил обширный дом, некогда принадлежавший баронам Строгановым. Здесь он решил основать нечто особенное, небывалое - фабрику-школу.
Это учреждение настолько оригинально и замечательно, что никак нельзя обойти его молчанием. На основании огромного запаса сведений по вопросу постановки технического образования, которые накопились у Тимофея Васильевича за его 20-летнюю практическую деятельность, и на основании тех наблюдений, которые он сделал за границей, в его уме создался тип учебно-промышленной фабрики, к устройству которой он немедленно и приступил. В мыслях Тимофея Васильевича ясно нарисован был план занятий в его техническом заведении: обучение мастерствам и учебным предметам как общеобразовательным, так и специальным, распределялось так, чтобы дети московских мещан из учеников делались бы мастеровыми, из мастеровых настоящими мастерами и учителями мастерства.
В мае началась перестройка Строгановского дома согласно намеченным целям, а в сентябре уже было открыто и само мануфактурное производство.
В доме, кроме комнат для хозяина, были устроены учебные мастерские, классы для учебных занятий, отдельные спальни как для учеников, так и для мастеровых, помещения для приказчиков, конторы и товаров. Все это было устроено так, чтобы хозяин мог в несколько минут обозреть все части своего учреждения.
Кроме того, было составлено обширное зало, в котором должны были собираться все ученики и рабочие для бесед или для чтения книг духовно-нравственного содержания. Беседы эти велись с благословения митрополита Филарета приходским священником, а иногда вел их и сам Тимофей Васильевич. Тут же производились беседы и чтения по вопросам, касающимся мануфактурной промышленности.
Для начала дела Тимофей Васильевич с фабрики братьев взял несколько хороших мастеровых и учеников из старой своей школы. С вновь принятыми количество учеников достигало значительного числа - их было до 50 человек. Как все это для начала ни было хорошо, но все же тут задуманное Тимофеем Васильевичем далеко не исчерпывалось. Его планы были много шире, но тех средств, хотя и очень больших (у него было до 500 000 рублей ассигнациями), все же было далеко не достаточно.
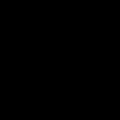 10 слов с ударением на 1 слог
10 слов с ударением на 1 слог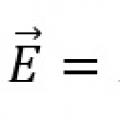 Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи
Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи Чиновники-академики уволены с госслужбы
Чиновники-академики уволены с госслужбы