Анализ цикла снежная маска блока. Глава пятая. «снежная маска» (1907). Нет исхода из вьюг, и погибнуть мне весело…
Посвящается Н. Н. В.
Снежное вино
И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.
Я опрокинут в темных струях
И вновь вдыхаю, не любя,
Забытый сон о поцелуях,
О снежных вьюгах вкруг тебя.
И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.
И как, глядясь в живые струи,
Не увидать себя в венце?
Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?
Снежная вязь
Снежная мгла взвилась.
Легли сугробы кругом.
Да. Я с тобой незнаком.
Ты – стихов моих пленная вязь.
И тайно сплетая вязь,
Нити снежные тку и плету.
Ты не первая мне предалась
На темном мосту.
Я не открою тебе дверей.
И снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн...
Ты смотришь всё той же пленной душой
В купол всё тот же – звездный...
И смотришь в печали,
И снег синей...
Темные дали,
И блистательный бег саней...
И когда со мной встречаются
Неизбежные глаза, -
Глуби снежные вскрываются,
Приближаются уста...
Вышина. Глубина. Снеговая тишь.
И ты молчишь.
И в душе твоей безнадежной
Та же легкая, пленная грусть.
О, стихи зимы среброснежной!
Я читаю вас наизусть.
Последний путь
В снежной пене – предзакатная -
Ты встаешь за мной вдали,
Там, где в дали невозвратные
Повернули корабли.
Не видать ни мачт, ни паруса,
Что манил от снежных мест,
И на дальнем храме безрадостно
Догорел последний крест.
И на этот путь оснеженный
Если встанешь – не сойдешь.
И душою безнадежной
Безотзывное поймешь.
Ты услышишь с белой пристани
Отдаленные рога.
Ты поймешь растущий издали
Зов закованной в снега.
На страже
Я – непокорный и свободный.
Я правлю вольною судьбой.
А Он – простерт над бездной водной
С подъятой к небесам трубой.
Он видит все мои измены,
Он исчисляет все дела.
И за грядой туманной пены
Его труба всегда светла.
И, опустивший меч на струи,
Он не смежит упорный взор.
Он стережет все поцелуи,
Паденья, клятвы и позор.
И Он потребует ответа,
Подъемля засветлевший меч.
И канет темная комета
В пучины новых темных встреч.
Второе крещенье
Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя,
И в новой снеговой купели
Крещен вторым крещеньем я.
И, в новый мир вступая, знаю,
Что люди есть, и есть дела,
Что путь открыт наверно к раю
Всем, кто идет путями зла.
Я так устал от ласк подруги
На застывающей земле.
И драгоценный камень вьюги
Сверкает льдиной на челе.
И гордость нового крещенья
Мне сердце обратила в лед.
Ты мне сулишь еще мгновенья?
Пророчишь, что весна придет?
Но посмотри, как сердце радо!
Заграждена снегами твердь.
Весны не будет, и не надо:
Крещеньем третьим будет – Смерть.
Настигнутый метелью
Вьюга пела.
И кололи снежные иглы.
И душа леденела.
Ты меня настигла.
Ты запрокинула голову в высь.
Ты сказала: «Глядись, глядись,
Пока не забудешь
Того, что любишь».
И указала на дальние города линии,
На поля снеговые и синие,
На бесцельный холод.
И снежных вихрей подъятый молот
Бросил нас в бездну, где искры неслись,
Где снежинки пугливо вились...
Какие-то искры,
Каких-то снежинок неверный полет..
Как быстро – так быстро
Ты надо мной
Опрокинула свод
Голубой...
Метель взвилась,
Звезда сорвалась,
За ней другая...
И звезда за звездой
Понеслась,
Открывая
Вихрям звездным
Новые бездны.
В небе вспыхнули темные очи
Так ясно!
И я позабыл приметы
Страны прекрасной -
В блеске твоем, комета!
В блеске твоем, среброснежная ночь!
И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее
Закатилось навсегда.
Но бредет за дальним полюсом
Солнце сердца моего,
Льдяным скованное поясом
Безначалья твоего.
Так взойди ж в морозном инее
Непомерный свет – заря!
Подними над далью синей
Жезл померкшего царя!
На зов метелей
Белоснежной не было зим
И перистей тучек.
Ты дала мне в руки
Серебряный ключик,
И владел я сердцем твоим.
Тихо всходил над городом дым.
Умирали звуки.
Белые встали сугробы,
И мраки открылись.
Выплыл серебряный серп.
И мы уносились,
Обреченные оба
На ущерб.
Ветер взвихрил снега.
Закатился серп луны.
И пронзительным взором
Ты измерила даль страны,
Откуда звучали рога
Снежным, метельным хором.
И мгла заломила руки,
Заломила руки в высь.
Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега,
Звенели рога
Налетающей ночи.
Не в земной темнице душной
Душу вверь ладье воздушной -
Ты пойми душой послушной,
Что люблю.
Взор твой ясный к выси звездной
И в руке твой меч железный
Сердце с дрожью бесполезной
Вихри снежные над бездной
Рукавом моих метелей
Серебром моих веселий
На воздушной карусели
Пряжей спутанной кудели
Легкой брагой снежных хмелей
Крылья легкие раскину,
Стены воздуха раздвину,
Страны дольние покину.
Вейтесь, искристые нити,
Льдинки звездные, плывите,
Вьюги дольние, вздохните!
В сердце – легкие тревоги,
В небе – звездные дороги,
Среброснежные чертоги.
Сны метели светлозмейной,
Песни вьюги легковейной,
Очи девы чародейной.
И какие-то печали
И туманные скрижали
От земли.
И покинутые в дали
И какие-то за мысом
И какие-то над морем
И расплеснут меж мирами,
Над забытыми пирами -
Кубок долгой страстной ночи,
Кубок темного вина.
Влюбленность
И опять твой сладкий сумрак, влюбленность.
И опять: «Навеки. Опусти глаза твои».
И дней туманность, и ночная бессонность,
И вдали, в волнах, вдали – пролетевшие ладьи.
И чему-то над равнинами снежными
Улыбнувшаяся задумчиво заря.
И ты, осенившая крылами белоснежными
На вечный покой отходящего царя.
Ангел, гневно брови изламывающий,
Два луча – два меча скрестил в вышине.
Но в гневах стали звенящей и падающей
Твоя улыбка струится во мне.
Не надо кораблей из дали,
Над мысом почивает мрак.
На снежносинем покрывале
И звезды сыплют снежный прах.
Ладьи ночные пролетели,
Ныряя в ледяных струях.
И нет моей завидней доли -
В снегах забвенья догореть,
И на прибрежном снежном поле
Под звонкой вьюгой умереть.
Не разгадать живого мрака,
Которым стан твой окружен.
И не понять земного знака,
Чтоб не нарушить снежный сон.
Сердце, слышишь
Легкий шаг
За собой?
Сердце, видишь:
Кто-то подал знак,
Тайный знак рукой?
Ты ли? Ты ли?
Вьюги плыли,
Лунный серп застыл...
Ты ль нисходишь?
Ты ль уводишь, -
Ты, кого я полюбил?
Над бескрайными снегами
Возлетим!
За туманными морями
Птица вьюги
Темнокрылой,
Дай мне два крыла!
Чтоб с тобою, сердцу милой,
В серебристом лунном круге
Вся душа изнемогла!
Чтоб огонь зимы палящей
Сжег грозящий
Дальний крест!
Чтоб лететь стрелой звенящей
В пропасть черных звезд!
И опять открыли солнца
Эту дверь.
И опять влекут от сердца
Эту тень.
И опять, остерегая,
Знак дают,
Чтобы медленный растаял
В келье лед.
«Кто ты? Кто ты?
Скован дремой,
Пробудись!
От дремоты
Незнакомой
Исцелись!
Мы – целители истомы,
Нашей медленной заботе
Покорись!
В златоверхие хоромы,
К созидающей работе
Воротись!»
– Кто вы? Кто вы?
Рая дщери!
Прочь! Летите прочь!
Кто взломал мои засовы?
Ты кому открыла двери,
Задремав, служанка-ночь?
Стерегут мне келью совы, -
Вам забвенью и потере
Не помочь!
На груди – снегов оковы,
В ледяной моей пещере -
Вихрей северная дочь!
Из очей ее крылатых
Светит мгла.
Трехвенечная тиара
Вкруг чела.
Золотистый уголь в сердце
Мне вожгла!
Трижды северное солнце
Обошло подвластный мир!
Трижды северные фьорды
Знали тихий лет ночей!
Трижды красные герольды
На кровавый звали пир!
Мне – мое открыло сердце
Снежный мрак ее очей!
Прочь лети, святая стая,
К старой двери
Умирающего рая!
Стерегите, злые звери,
Чтобы ангелам самим
Не поднять меня крылами,
Не вскружить меня хвалами,
Не пронзить меня Дарами
И Причастием своим!
У меня в померкшей келье -
Два меча.
У меня над ложем – знаки
Черных дней.
И струит мое веселье.
Два луча.
То горят и дремлют маки
Злых очей.
И опять снега
И опять, опять снега
Замели следы...
Над пустыней снежных мест
Дремлют две звезды.
И поют, поют рога.
Над парами злой воды
Вьюга строит белый крест,
Рассыпает снежный крест,
Одинокий смерч.
И вдали, вдали, вдали,
Между небом и землей
Веселится смерть.
И за тучей снеговой
Задремали корабли -
Опрокинутые в твердь
Станы снежных мачт.
И в полях гуляет смерть -
Снеговой трубач...
И вздымает вьюга смерч,
Строит белый, снежный крест,
Заметает твердь...
Разрушает снежный крест
И бежит от снежных мест...
И опять глядится смерть
С беззакатных звезд...
(Двое проносятся в сфере метелей)
Нет исхода вьюгам певучим!
Нет заката очам твоим звездным!
Рукою, подъятой к тучам,
Ты влечешь меня к безднам!
О, настигай! О, догони!
Померкли дни.
Столетья минут.
Земля остынет.
Луна опрокинет
Свой лик к земле!
Кто жребий мой вынет,
Тот опрокинут
В бездонной мгле!
Оставь тревоги,
Метель в дороге
Тебя застигла.
Ласкают вьюги,
Ты – в лунном круге,
Тебя пронзили снежные иглы!
Сердце – громада
Горной лавины -
Катится в бездны...
Ты гибели рада,
Дева пучины
Звездной!
Я укачала
Царей и героев...
Слушай снега!
Из снежного зала,
Из надзвездных покоев
Поют боевые рога!
Меч мой железный
Утонул в серебряной вьюге...
Где меч мой? Где меч мой!
Внимай! Внимай! Я – ветер встречный!
Мы – в лунном круге!
Мы – в бездне звездной!
Прости, отчизна!
Здравствуй, холод!
Отвори мне застывшие руки!
Слушай, слушай трубные звуки!
Кто молод, -
Расстанься с дольнею жизнью!
Прости! Прости!
Остыло сердце!
Где ты, солнце?
(Вьюга вздымает белый крест)
И я затянут
Лентой млечной!
Тобой обманут,
О, Вечность!
Подо мной растянут
В дали бесконечной
Твой узор. Бесконечность,
Темница мира!
Узкая лира,
Звезда богини,
Снежно стонет
И корабль закатный
В нежно-синей
Под масками
А под маской было звездно.
Улыбалась чья-то повесть,
Короталась тихо ночь.
И задумчивая совесть,
Тихо плавая над бездной,
Уводила время прочь.
И в руках, когда-то строгих,
Был бокал стеклянных влаг.
Ночь сходила на чертоги,
Замедляя шаг.
И позвякивали миги,
И звенела влага в сердце,
И дразнил зеленый зайчик
В догоревшем хрустале.
А в шкалу дремали книги.
Там – к резной старинной дверце
Прилепился голый мальчик
На одном крыле.
Бледные сказанья
– Посмотри, подруга, эльф твой
– Посмотри, как быстролетны
Так смеется маска маске,
Злая маска, к маске скромной
Обратясь:
– Посмотри, как темный рыцарь
Скажет сказки третьей маске...
Темный рыцарь вкруг девицы
Заплетает вязь.
Тихо шепчет маска маске,
Злая маска – маске скромной...
Третья – смущена...
И еще темней – на темной
Завесе окна
Темный рыцарь – только мнится..
И стрельчатые ресницы
Опускает маска вниз.
Снится маске, снится рыцарь...
– Темный рыцарь, улыбнись...
Он рассказывает сказки,
Опершись на меч.
И она внимает в маске.
И за ними – тихий танец
Отдаленных встреч...
Как горит ее румянец!
Странен профиль темных плеч!
А за ними – тихий танец
Отдаленных встреч.
И на завесе оконной
Золотится
Луч, протянутый от сердца -
Тонкий цепкий шнур,
И потерянный, влюбленный
Не умеет прицепиться
Улетевший с книжной дверцы
Сквозь винный хрусталь
В длинной сказке
Тайно кроясь,
Бьет условный час.
В темной маске
Ярких глаз.
Нет печальней покрывала,
Тоньше стана нет...
– Вы любезней, чем я знала,
Господин поэт!
– Вы не знаете по-русски,
Госпожа моя...
На плече за тканью тусклой,
На конце ботинки узкой
Дремлет тихая змея.
В углу дивана
Но в камине дозвенели
За окошком догорели
И на вьюжном море тонут
И над южным морем стонут
Верь мне, в этом мире солнца
Больше нет.
Верь лишь мне, ночное сердце,
Я – поэт!
Я какие хочешь сказки
Расскажу,
И какие хочешь маски
И пройдут любые тени
При огне,
Странных очерки видений
На стене.
И любой колени склонит
Пред тобой...
И любой цветок уронит
Голубой...
Тени на стене
Вот прошел король с зубчатым
Пляшущим венцом.
Шут прошел в плаще крылатом
С круглым бубенцом.
Дамы с шлейфами, пажами,
В розовых тенях.
Рыцарь с темными цепями
На стальных руках.
Ах, к походке вашей, рыцарь,
Шел бы длинный меч!
Под забралом вашим, рыцарь,
Нежный взор желанных встреч!
Ах, петуший гребень, рыцарь,
Ваш украсил шлем!
Ах, скажите, милый рыцарь,
Вы пришли зачем?
К нашим сказкам, милый рыцарь,
Приклоните слух...
Эти розы, милый рыцарь,
Подарил мне друг.
Эти розаны – мне, рыцарь,
Милый друг принес...
Ах, вы сами в сказке, рыцарь!
Вам не надо роз...
Насмешница
Подвела мне брови красным,
Поглядела и сказала:
«Я не Знала:
Тоже можешь быть прекрасным,
Темный рыцарь, ты!»
И, смеясь, ушла с другими.
А под сводами ночными
Плыли тени пустоты,
Догорали хрустали.
Тени плыли, колдовали,
Струйки винные дремали,
Заливалось утро криком
И летели тройки с гиком...
Они читают стихи
Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы
Мой ум метелью замели.
Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? – Бог весть!
Ты твердо знаешь: в книгах – сказки,
А в жизни – только проза есть.
Но для меня неразделимы
С тобою – ночь и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки.
Не будь и ты со мною строгой,
И маской не дразни меня.
И в темной памяти не трогай
Иного – страшного – огня.
Неизбежное
Тихо вывела из комнат,
Затворила дверь.
Тихо. Сладко. Он не вспомнит,
Не запомнит, что теперь.
Вьюга память похоронит,
Навсегда затворит дверь.
Сладко в очи поглядела
Взором как стрела.
Слушай, ветер звезды гонит,
Слушай, пасмурные кони
Топчут звездные пределы
И кусают удила...
И под маской – так спокойно
Расцвели глаза.
Неизбежно и спокойно
Взор упал в ее глаза.
Здесь и там
Ветер звал и гнал погоню,
Черных масок не догнал...
Были верны наши кони,
Кто-то белый помогал...
Заметал снегами сани,
Коней иглами дразнил,
Строил башни из тумана,
И кружил, и пел в тумане,
И из снежного бурана
Оком темным сторожил.
И метался ветер быстрый
По бурьянам,
И снопами мчались искры
По туманам, -
Ветер масок не догнал,
И с высот сереброзвездных
Тучу белую сорвал...
И в открытых синих безднах
Обозначились две тени,
Улетающие в дали
Незнакомой стороны...
Странных очерки видений
В черных масках танцевали -
Были влюблены.
Смятение
Мы ли – пляшущие тени?
Или мы бросаем тень?
Снов, обманов и видений
Догоревший полон день.
Не пойму я, что нас манит,
Не поймешь ты, что со мной,
Чей под маской взор туманит
Сумрак вьюги снеговой?
И твои мне светят очи
Наяву или во сне?
Даже в полдне, даже в дне
Разметались космы ночи...
И твоя ли неизбежность
Совлекла меня с пути?
И моя ли страсть и нежность
Хочет вьюгой изойти?
Маска, дай мне чутко слушать
Сердце темное твое,
Возврати мне, маска, душу,
Горе светлое мое!
Обреченный
Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи...
Вот меня из жизни вывели
Снежным серебром стези...
Как над тою дальней прорубью
Тихий пар струит вода,
Так своею тихой поступью
Ты свела меня сюда.
Завела, сковала взорами
И рукою обняла,
И холодными призерами
Белой смерти предала...
И в какой иной обители
Мне влачиться суждено,
Если сердце хочет гибели,
Тайно просится на дно?
Нет исхода
Нет исхода из вьюг,
И погибнуть мне весело.
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила...
Тихо смотрит в меня,
Темноокая.
И, колеблемый вьюгами Рока,
Я взвиваюсь, звеня,
Пропадаю в метелях...
И на снежных постелях
Спят цари и герои
Минувшего дня
В среброснежном покое -
О, Твои, Незнакомая, снежные жертвы!
И приветно глядят на меня:
«Восстань из мертвых!»
Сердце предано метели
Сверкни, последняя игла,
В снегах!
Встань, огнедышащая мгла!
Взмети твой снежный прах!
Убей меня, как я убил
Когда-то близких мне!
Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил,
Я бросил сердце с белых гор,
Оно лежит на дне!
Я сам иду на твой костер!
Сжигай меня!
Пронзай меня,
Крылатый взор,
Иглою снежного огня!
На снежном костре
И взвился костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.
Молодые ходят ночи,
Сестры – пряхи снежных зим,
И глядят, открывши очи,
Завивают белый дым.
И крылатыми очами
Нежно смотрит высота.
Вейся, легкий, вейся, пламень,
Увивайся вкруг креста!
В снежной маске, рыцарь милый,
В снежной маске ты гори!
Я ль не пела, не любила,
Поцелуев не дарила
От зари и до зари?
Будь и ты моей любовью,
Милый рыцарь, я стройна,
Милый рыцарь, снежной кровью
Я была тебе верна.
Я была верна три ночи,
Завивалась и звала,
Я дала глядеть мне в очи,
Крылья легкие дала...
Так гори, и яр и светел,
Я же – легкою рукой
Размету твой легкий пепел
По равнине снеговой.
Усталость
Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод.
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет.
И краток путь средь долгой ночи,
Друзья, близка ночная твердь!
И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: смерть.
И есть ланит живая алость,
Печаль свиданий и разлук...
Но есть паденье, и усталость,
И торжество предсмертных мук.
Ненужная весна
Отсеребрилась; отзвучала...
И вот из-за домов, пьяна,
В пустую комнату стучала
Ненужно ранняя весна.
Она сера и неумыта,
Она развратна до конца.
Как свиньи тычутся в корыта,
Храпит у моего крыльца.
И над неубранной постелью
Склонилась, давит мне на грудь,
И в сердце, смятое метелью,
Бесстыдно хочет заглянуть.
Ну, что же! Стисну зубы, встречу,
И, выбрав хитрый, ясный миг,
Ее заклятьем изувечу
И вырву пожелтелый клык!
Пускай трясет визгливым рылом:
Зачем непрошеной вошла,
Куда и солнце не входило,
Где ночь метельная текла!
В глазах ненужный день так ярок,
Но в сердце неотлучно – ночь.
За красоту мою – в подарок
Старуха привела мне дочь.
«Вот, проводи с ней дни и ночи:
Смотри, она стройна, как та.
Она исполнит всё, что хочешь:
Она бесстыдна и проста».
Смотрю. Мой взор – слепой и зоркий
«Она красива, дочь твоя.
Вот, погоди до Красной Горки:
Тогда с ней повенчаюсь я».
Зима прошла. Я болен.
Я вновь в углу, средь книг.
Он, кажется, доволен,
Досужий мой двойник.
Да мне-то нет досуга
Болтать про всякий вздор.
Мы поняли друг друга?
Ну, двери на запор.
Мне гости надоели.
Скажите, что грущу.
А впрочем, на неделе -
Лишь одного впущу:
Того, кто от занятий
Утратил цвет лица,
И умер от заклятий
Волшебного кольца.
«Придут незаметные белые ночи…»
Придут незаметные белые ночи.
И душу вытравят белым светом.
И бессонные птицы выклюют очи.
И буду ждать я с лицом воздетым.
Я буду мертвый – с лицом подъятым
Придет, кто больше на свете любит
В мертвые губы меня поцелует,
Закроет меня благовонным платом.
Придут другие, разрыхлят глыбы,
Зароют – уйдут беспокойно прочь
Они обо мне помолиться могли бы,
Да вот – помешала белая ночь".
«Ушла. Но гиацинты ждали…»
Ушла. Но гиацинты ждали,
И день не разбудил окна,
И в легких складках женской шали
Цвела ночная тишина.
В косых лучах вечерней пыли,
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханьем нильских лилий
Меня пленять и опьянять.
Мне слабость этих рук знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч.
Но в имени твоем – безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозовых.
И, миру дольнему подвластна,
Меж всех – не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.
Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни,
И темным взором острой боли
Живое сердце полосни.
Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.
1907
«За холмом отзвенели упругие латы…»
За холмом отзвенели упругие латы,
И копье потерялось во мгле.
Не сияет и шлем – золотой и пернатый -
Всё, что было со мной на земле.
Встанет утро, застанет раскинувшим руки,
Где я в небо ночное смотрел.
Солнцебоги, смеясь, напрягут свои луки,
Обольют меня тучами стрел.
Если близкое утро пророчит мне гибель,
Чую, там, под холмами, на горном изгибе
Лик твой молнийный гневом горит!
Воротясь, ты направишь копье полуночи
Солнцебогу веселому в грудь.
Я увижу в змеиных кудрях твои очи,
Надо мною ты в синем своем покрывале,
С исцеляющим жалом – змея...
Мы узнаем с тобою, что прежде знавали,
Под неверным мерцаньем копья!
«Зачатый в ночь, я в ночь рожден…»
Зачатый в ночь, я в ночь рожден,
И вскрикнул я, прозрев:
Так тяжек матери был стон,
Так черен ночи зев.
Когда же сумрак поредел,
Унылый день повлек
Клубок однообразных дел,
Безрадостный клубок.
Что быть должно – то быть должно,
Так пела с детских лет
Шарманка в низкое окно,
И вот – я стал поэт.
Влюбленность расцвела в кудрях
И в ранней грусти глаз.
И был я в розовых цепях
У женщин много раз.
И всё, как быть должно, пошло:
Любовь, стихи, тоска;
Всё приняла в свое русло
Спокойная река.
Как ночь слепа, так я был слеп,
И думал жить слепой...
Но раз открыли темный склеп,
Сказали: Бог с тобой.
В ту ночь был белый ледоход,
Разлив осенних вод.
Я думал: «Вот, река идет».
И я пошел вперед.
В ту ночь река во мгле была,
И в ночь и в темноту
Та – незнакомая – пришла
И встала на мосту.
Она была – живой костер
Из снега и вина.
Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.
И тихо за руку взяла
И глянула в лицо.
И маску белую дала
И светлое кольцо.
«Довольно жить, оставь слова,
Я, как метель, звонка,
Иною жизнию жива,
Иным огнем ярка».
Она зовет. Она манит.
В снегах земля и твердь.
Что мне поет? Что мне звенит?
Иная жизнь! Глухая смерть?
«В темной комнате ты обесчещена…»
В темной комнате ты обесчещена,
Светлой улице ты предана,
Ты идешь, красивая женщина,
Ты пьяна!
Шлейф ползет за тобой и треплется,
Как змея, умирая в пыли...
Видишь ты: в нем жизнь еще теплится"
«Я насадил мой светлый рай…»
Моей матери
Я насадил мой светлый рай
И оградил высоким тыном,
И в синий воздух, в дивный край
Приходит мать за милым сыном.
«Сын, милый, где ты?» – Тишина.
Над частым тыном солнце зреет,
И медленно и верно греет
Долину райского вина.
И бережно обходит мать
Мои сады, мои заветы,
И снова кличет: «Сын мой! Где ты?»
Цветов стараясь не измять...
Всё тихо. Знает ли она,
Что сердце зреет за оградой?
Что прежней радости не надо
Вкусившим райского вина?
Апрель 1907
«Ты пробуждалась утром рано…»
Ты пробуждалась утром рано
И покидала милый дом.
И долго, долго из тумана
Копье мерцало за холмом.
А я, чуть отрок, слушал толки
Про силу дивную твою,
И шевелил мечей осколки,
Тобой разбросанных в бою.
Довольно жить в разлуке прежней
Не выйдешь из дому с утра.
Я всё влюбленней и мятежней
Смотрю в глаза твои, сестра!
Учи меня дневному бою -
Уже не прежний отрок я,
И миру тесному открою
Полет свободного копья!
Апрель (?) 1907
«С каждой весною пути мои круче…»
С каждой весною пути мои круче,
Мертвенней сумрак очей.
С каждой весною ясней и певучей
Таинства белых ночей.
Месяц ладью опрокинул в последней
Бледной могиле, – и вот
Стертые лица и пьяные бредни...
Карты... Цыганка поет.
Смехом волнуемый черным и громким
Был у нас пламенный лик.
Свет набежал. Промелькнули потемки.
Вот он: бесстрастен и дик.
Видишь, и мне наступила на горло;
Душит красавица ночь...
Краски последние смыла и стерла...
Что ж? Если можешь, пророчь..
Ласки мои неумелы и грубы.
Ты же – нежнее, чем май.
Что же? Целуй в помертвелые губы.
Пояс печальный снимай.
«Ты отошла, и я в пустыне…»
Ты отошла, и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.
О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты – родная Галилея
Мне – невоскресшему Христу.
И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить ему главу.
«Я ухо приложил к земле…»
Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань и загорись и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!
Ты роешься, подземный крот!
Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадет...
Как зерна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
Лелей, пои, таи ту новь,
Пройдет весна – над этой новью,
Вспоенная твоею кровью,
Созреет новая любовь.
«Тропами тайными, ночными…»
Тропами тайными, ночными,
При свете траурной зари,
Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокройся в темные гроба!
Так нам велит времен величье
И розоперстая судьба!
Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч!
Всё, всё – да станет легкой пылью
Под солнцем, не уставшим жечь!
Ты перед ним – что стебель гибкий,
Он пред тобой – что лютый зверь.
Не соблазняй его улыбкой,
Молчи, когда стучится в дверь.
А если он ворвется силой,
За дверью стань и стереги:
Успеешь – в горнице немилой
Сухие стены подожги.
А если близок час позорный,
Ты повернись лицом к углу,
Свяжи узлом платок свой черный
И в черный узел спрячь иглу.
И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда...
И пусть в угаре страсти грубой
Он не запомнит, сгоряча,
Твои оттиснутые зубы
Глубоким шрамом вдоль плеча!
«Сырое лето. Я лежу…»
Сырое лето. Я лежу
В постели – болен. Что-то подступает
Горячее и жгучее в груди.
А на усадьбе, в тенях светлой ночи,
Собаки с лаем носятся вкруг дома.
И меж своих – я сам не свой. Меж кровных
Бескровен – и не знаю чувств родства.
И люди опостылели немногим
Лишь меньше, чем убитый мной комар.
И свечкою давно озарено
То место в книжке, где профессор скучный.
Как ноющий комар, – поет мне в уши,
Что женщина у нас угнетена
И потому сходна судьбой с рабочим.
Постой-ка! Вот портрет: седой профессор -
Прилизанный, умытый, тридцать пять
Изданий книги выпустивший! Стой!
Ты говоришь, что угнетен рабочий?
Постой: весной я видел смельчака,
Рабочего, который смело на смерть
Пойдет, и с ним – друзья. И горны замолчат
И остановятся работы разом
На фабриках. И жирный фабрикант
Поклонится рабочим в ноги. Стой!
Ты говоришь, что женщина – раба?
Я знаю женщину. В ее душе
Был сноп огня. В походке – ветер.
В глазах – два моря скорби и страстей
И вся она была из легкой персти -
Дрожащая и гибкая. Так вот,
Профессор, четырех стихий союз
Был в ней одной. Она могла убить -
Могла и воскресить. А ну-ка, ты
Убей, да воскреси потом! Не можешь?
А женщина с рабочим могут.
Песельник
Там за лесом двадцать девок
Расцветало краше дня.
Сергей Городецкий
Я. – песельник. Я девок вывожу
В широкий хоровод. Я с ветром ворожу.
Я песню длинную прилежно вывожу.
Ой, дальний край! Ты – мой! Ой, косыньку
Ой, девка, заводи в глухую топь весной!
Эй, девка, собирай лесной туман косой!
Эй, песня, веселей! Эй, сарафан, алей!
Легла к земле косой, туманится росой...
Яр темных щек загар, что твой лесной пожар...
И встала мне женой... Ой, синь туман, ты – мой
Ал сарафан – пожар, что девичий загар!
«В этот серый летний вечер…»
В этот серый летний вечер,
Возле бедного жилья,
По тебе томится ветер,
Черноокая моя!
Ты в каких степях гуляла,
Дожидалась до звезды,
Не дождавшись, обнимала
Прутья ивы у воды?
Разлюбил тебя и бросил,
Знаю – взял, чего хотел,
Бросил, вскинул пару весел,
Уплывая, не запел...
Долго ль песни заунывной
Ты над берегом ждала,
И какой реке разливной
Душу-бурю предала?
Вольные мысли
(Посв. Г. Чулкову)
1. О смерти
Всё чаще я по городу брожу.
Всё чаще вижу смерть – и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.
Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на грудах щебня,
А за глухим забором – ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздутые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.
Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом – внезапный крик:
«Упал! Упал!» – кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенек,
Увидел всё зараз: вдали летели
Жокеи в пестром – к тонкому столбу.
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремена.
А за листвой кудрявеньких березок,
Так близко от меня – лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.
Как будто век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...
И вот повисла
Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтузе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек
Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблескивали козла, оси, крылья...
Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал – с одной упорной мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремена,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг – в мозгу прошли все мысли
Единственные нужные. Прошли -
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит наверх.
Так хорошо и вольно.
Однажды брел по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была еще синей от белой пены.
В отстегнутые вороты рубах
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды желтого песку,
Таскали – то кирпичик, то полена,
То бревнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери – с отвислыми грудями
Под грязным платьем – ждали их, ругались
И, надавав затрещин, отбирали
Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль.
И снова, воротясь гурьбой веселой,
Ребятки начинали воровать:
Тот бревнышко, другой – кирпичик...
И вдруг раздался всплеск воды и крик.
«Упал! Упал!» – опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пестрая толпа рубах неслась
Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу – лежала сотка.
Один тащил багор.
А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубахе и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог,
И длинное растянутое тело,
С которого ручьем лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щеку приложил к груди
Намокшей, и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ,
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько выпил?
Потом все стали тихо отходить,
И я пошел своим путем, и слушал,
Как истовый, но выпивший рабочий
Что губит каждый день людей вино
Пойду еще бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова
Тупа, и мысли вялы...
Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.
Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!
2. Над озером
С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый, -
Влюбленные ему я песни шлю.
Оно меня не видит – и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом,
И отняло у неба весь закат.
Все исполняют прихоти его:
Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафор на дальнем берегу,
В нем отразивший свой огонь зеленый -
Как раз на самой розовой воде.
К нему ползет трехглазая змея
Своим единственным стальным путем,
И, прежде свиста, озеро доносит
Ко мне – ее ползучий, хриплый шум.
Я на уступе. Надо мной – могила
Из темного гранита. Подо мной -
Белеющая в сумерках дорожка.
И кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается: такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил,
Скрестивший руки, стройный и влюбленный
Но некому взглянуть. Внизу идут
Влюбленные друг в друга: нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.
А озеру – красавице – ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.
Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там – самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное прогонит
Затянутого в китель офицера
С вихляющимся задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!
Она глядит как будто за туманы,
За озеро, за сосны, за холмы,
Куда-то так далёко, так далёко,
Куда и я не в силах заглянуть...
О, нежная! О, тонкая! – И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!.. – И задумчиво глядит
В клубящийся туман... Ах, как прогонит!..
А офицер уж близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица-нос,
И плоский блин, приплюснутый фуражкой.
Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
Его гляделки в ясные глаза!..
Я даже выдвинулся из-за склепа...
И вдруг... протяжно чмокает ее,
Дает ей руку и ведет на дачу!
Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил – незримый и высокий...
Кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!» – И они
Испуганы, сконфужены, не знают,
Откуда шишки, хохот и песок...
Он ускоряет шаг, не забывая
Вихлять проворно задом, и она,
Прижавшись крепко к кителю, почти
Бегом бежит за ним...
Эй, доброй ночи!
И, выбегая на крутой обрыв,
Я отражаюсь в озере... Мы видим
Друг друга: «Здравствуй!» – я кричу...
Прибрежные ответствуют мне: «Здравствуй!»
Кричу: «Прощай!» – они кричат: «Прощай!»
Лишь озеро молчит, влача туманы,
Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны...
И белая задумчивая ночь
Несет меня домой. И ветер свищет
В горячее лицо. Вагон летит...
И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягком кресле,
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная.
Цветы меня не радуют. Пишите...
Простите и сожгите этот бред...»
И томные слова... И длинный почерк,
Усталый, как ее усталый шлейф...
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах.
Шувалово
3. В северном море
Что сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,
На мелководье. Там, переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы,
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.
А там – закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один -
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневе мечет из очей
То красные, то синие огни.
И с длинного, протянутого в море,
Подгнившего, сереющего мола,
Прочтя все надписи: «Навек с тобой»,
Здесь были Коля с Катей», «Диодор
Иеромонах и послушник Исидор
Здесь были. Дивны божий дела», -
Прочтя все надписи, выходим в море
В пузатой и смешной моторной лодке.
Бензин пыхтит и пахнет. Два крыла
Бегут в воде за нами. Вьется быстрый след
И, обогнув скучающих на пляже,
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,
Мы выбегаем многоцветной рябью
B просторную ласкающую соль.
На горизонте, за спиной, далёко
Безмолвным заревом стоит пожар.
Рыбачий Вольный остров распростерт
В воде, как плоская спина морского
Животного. А впереди, вдали -
Огни судов и сноп лучей бродячих
Прожектора таможенного судна.
И мы уходим в голубой туман.
Косым углом торчат над морем вехи,
Метелками фарватер оградив,
И далеко – от вехи и до вехи -
Рыбачьих шхун маячат паруса...
Над морем – штиль. Под всеми парусами
Стоит красавица – морская яхта.
На тонкой мачте – маленький фонарь,
Что камень драгоценной фероньеры,
Горит над матовым челом небес.
На острогрудой, в полной тишине,
В причудливых сплетениях снастей,
Сидят, скрестивши руки, люди в светлых
Панамах, сдвинутых на строгие черты.
А посреди, у самой мачты, молча,
Стоит матрос, весь темный, и глядит.
Мы огибаем яхту, как прилично,
И вежливо и тихо говорит
Один из нас: «Хотите на буксир?»
И с важной простотой нам отвечает
И, снова обогнув их, мы глядим
С молитвенной и полною душою
На тихо уходящий силуэт
Красавицы под всеми парусами...
На драгоценный камень фероньеры,
Горящий в смуглых сумерках чела.
Сестрорецкий курорт
4. В дюнах
Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой»,
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра -
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду – и запою».
Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней – всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен – нищей красотою
Зыбучих дюн и северных морей.
Так думал я, блуждая по границе
Финляндии, вникая в темный говор
Небритых и зеленоглазых финнов.
Стояла тишина. И у платформы
Готовый поезд разводил пары.
И русская таможенная стража
Лениво отдыхала на песчаном
Обрыве, где кончалось полотно.
Там открывалась новая страна -
И русский бесприютный храм глядел
В чужую, незнакомую страну.
Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
её глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом – вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...
Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
Она же оставляла легкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.
И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она – и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя,
Не прегражу ей путь. И не скажу:
«Моя! Моя!» – И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!»
Дюны
Июнь – июль 1907
«Везде – над лесом и над пашней…»
Везде – над лесом и над пашней,
И на земле, и на воде -
Такою близкой и вчерашней
Ты мне являешься – везде.
Твой стан под душной летней тучей
Твой стан, закутанный в меха,
Всегда пою – всегда певучий,
Клубясь туманами стиха.
И через годы, через воды,
И на кресте и во хмелю,
Тебя, Дитя моей свободы,
Подруга Светлая, люблю.
«В густой траве пропадешь с головой…»
В густой траве пропадешь с головой.
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь.
Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь – тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...
Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой – зовет и манит...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне»
И опять за травой колокольчик звенит..
Осенняя любовь
Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь, -
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь; -
Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, -
Тогда – просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.
В глазах – такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.
Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой – будет ли причален
К моей распятой высоте?
И вот уже ветром разбиты, убиты
Кусты облетелой ракиты.
И прахом дорожным
Угрюмая старость легла на ланитах.
Но в темных орбитах
Взглянули, сверкнули глаза невозможным
И радость, и слава -
Всё в этом сияньи бездонном,
И дальнем.
Но смятые травы
Печальны,
И листья крутятся в лесу обнаженном.
И снится, и снится, и снится:
Бывалое солнце!
Тебя мне всё жальче и жальче...
О, глупое сердце,
Смеющийся мальчик,
Когда перестанешь ты биться?
Под ветром холодные плечи
Твои обнимать так отрадно:
Ты думаешь – нежная ласка,
Я знаю – восторг мятежа!
И теплятся очи, как свечи
Ночные, и слушаю жадно -
Шевелится страшная сказка,
И звездная дышит межа...
О, в этот сияющий вечер
Ты будешь всё так же прекрасна,
И, верная темному раю,
Ты будешь мне светлой звездой!
Я знаю, что холоден ветер,
Я верю, что осень бесстрастна!
Но в темном плаще не узнают,
Что ты пировала со мной!..
И мчимся в осенние дали,
И слушаем дальние трубы,
И мерим ночные дороги,
Холодные выси мои...
Часы торжества миновали -
Мои опьяненные губы
Целуют в предсмертной тревоге
Холодные губы твои.
«Когда я создавал героя…»
Когда я создавал героя,
Кремень дробя, пласты деля,
Какого вечного покоя
Была исполнена земля!
Но в зацветающей лазури
Уже боролись свет и тьма,
Уже металась в синей буре
Одежды яркая кайма...
Щит ослепительно сверкучий
Сиял в разрыве синих туч,
И светлый меч, пронзая тучи,
Разил, как неуклонный луч...
Еще не явлен лик чудесный,
Но я провижу лик – зарю,
И в очи молнии небесной
С чудесным трепетом смотрю!
«Всюду ясность божия…»
Всюду ясность божия,
Ясные поля,
Девушки пригожие,
Как сама земля.
Только верить хочешь всё,
Что на склоне лет
Ты, душа, воротишься
В самый ясный свет.
«В те ночи светлые, пустые…»
В те ночи светлые, пустые,
Когда в Неву глядят мосты,
Они встречались как чужие,
Забыв, что есть простое ты.
И каждый был красив и молод,
Но, окрыляясь пустотой,
Она таила странный холод
Под одичалой красотой.
И, сердцем вечно строгим меря,
Он не умел, не мог любить.
Она любила только зверя
В нем раздразнить – и укротить.
И чуждый – чуждой жал он руки
И север сам, спеша помочь
Красивой нежности и скуке,
В день превращал живую ночь.
Так в светлоте ночной пустыни,
В объятья ночи не спеша,
Гляделась в купол бледно-синий
Их обреченная душа.
Снежная дева
Она пришла из дикой дали -
Ночная дочь иных времен.
Ее родные не встречали,
Не просиял ей небосклон.
Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.
Бывало, вьюга ей осыпет
Звездами плечи, грудь и стан, -
Всё снится ей родной Египет
Сквозь тусклый северный туман.
И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла.
Ей стали нравиться громады,
Уснувшие в ночной глуши,
И в окнах тихие лампады
Слились с мечтой ее души.
Она узнала зыбь и дымы,
Огни, и мраки, и дома -
Весь город мой непостижимый -
Непостижимая сама.
Она дарит мне перстень вьюги
За то, что плащ мой полон звезд
За то, что я в стальной кольчуге
И на кольчуге – строгий крест
Она глядит мне прямо в очи,
Хваля неробкого врага.
С полей ее холодной ночи
В мой дух врываются снега.
Но сердце Снежной Девы немо
И никогда не примет меч,
Чтобы ремень стального шлема
Рукою страстною рассечь.
И я, как вождь враждебной рати
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.
Символизм – первое и наиболее яркое литературное течение в русской поэзии начала ХХ века
Поэтов - символистов интересовала прежде всего личность человека, мир его чувств и ощущений.
Символ – предметный или словесный знак, выражающий сущность какого-либо явления.
Цель работы: исследовать тексты двух стихотворений из цикла «Снежная маска», выяснить значение и роль образа-символа снежной маски.
«Смятение»
Мы ли – пляшущие тени?
Или мы бросаем тень?
Снов, обманов и видений
Догоревший полон день.
Не пойму я, что нас манит,
Не поймешь ты, что со мной,
Чей под маской взор туманит
Сумрак вьюги снеговой?
Смысл названия стихотворения открывается читателю не сразу…
Лирический герой в смятении, оттого что не может понять: или он и его возлюбленная превратились в тени, или они только бросают тень, танцуя в каком-то призрачном пространстве, которое названо «днем снов, обманов и видений»…
Тема маски пришла в лирику Блока из стихотворений другого символиста – Брюсова.
Артистическое маскарадное начало было модным в поведении театральной и литературной молодежи начала ХХ века. Столичная молодежь часто устраивала костюмированные вечеринки, обязательным атрибутом которых была маска.
Маска скрывает правду, порождает страх и смятение…
Маска, дай мне чутко слушать
Сердце темное твое,
Возврати мне, маска, душу,
Горе светлое мое!
М а с к а
в стихотворении «Смятение»выполняет роль защиты: каждый из героев защищает свою душу от ошибки, от боли. В маске всегда есть антитеза темное / светлое
Образ круга двойственен: это и мир утраченного идеала, и, с другой стороны, гибельное замкнутое пространство.
Двойственность мира-круга подчеркнута оксюмороном «погибнуть мне весело».
Главное событие лирического стихотворения – выход героя из мира-круга.
Воскреснет ли герой среди снежных вьюг, в мире, где царствует Маска-судьба?
Душа, Дух и Тело – тройственный союз.
Смерть Тела, Духа, но не Души…
Вода – первооснова жизни. Снег – замерзшая вода, застывшая жизнь…
Надо пройти через очарование и смятение, через метели и снег, через смерть, чтобы обрести НОВУЮ ЖИЗНЬ.
Работа может использоваться для проведения уроков и докладов по предмету "Литература"
Готовые презентации по литературе обладают красочными слайдами с изображениями поэтов и их героев, а также иллюстрациями к романам, стихотворениям и другим литературным произведениям.Перед учителем литературы стоит задача проникнуть в душу ребенка, научить его нравственности, и развить в нем творческую личность, поэтому, презентации по литературе должны быть интересными и запоминающимися. В этом разделе нашего сайта Вы можете скачать готовые презентации на уроки литературы для 5,6,7,8,9,10,11 класса абсолютно и без регистрации.
ГЛАВА ПЯТАЯ. «СНЕЖНАЯ МАСКА» (1907)
28 декабря 1906 года. Блок набрасывает в «Записной книжке» план драмы «Дионис Гиперборейский». «Слабый юноша», оставшийся в одиночестве в ледяных горах, кличет «громко и настойчиво». «На последний его ужасающий крик ответствует ему Ее низкий голос». На этом набросок обрывается. А дальше запись: «Кто Она? Бог или демон? Завтра я присмотрюсь еще. Спокойнее. Бестревожней. Не безвкусно; не нарушить ничего. Дело идет о гораздо более важном. Сюда же цитата для памяти». Под названием «цитата» приводится следующий черновик письма: «28-XII. Сегодня я предан Вам. Прошу Вас подойти ко мне. Мне необходимо сказать несколько слов Вам одной. Прошу это принять так же просто, как я пишу. Я глубоко уважаю Вас».
Первое стихотворение сборника «Снежная маска» датировано 29 декабря; оно называется «Снежное вино».
И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.
Эти стихи о женщине-вине, о женщине-змее - посвящены артистке Наталии Николаевне Волоховой. Нет сомнения, что заметка в «Записной книжке» («Кто она? Бог или демон?») и черновик письма относятся тоже к ней. Поэт уговаривает себя спокойней, бестревожней присмотреться к образу, возникающему перед ним в снежной метели. Лицо «темноокой девы» - загадочно и грозно. Через год он писал:
И я провел безумный год
У шлейфа черного…
В книге М. А. Бекетовой мы читаем: «Скажу одно: поэт не прикрасил свою „снежную деву“. Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, как она была дивно обаятельна. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно „крылатые“, черные, широко открытые „маки злых очей“. И еще поразительнее была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: „раскольничья богородица“…»
Впечатление Белого иное; Волохова ему не понравилась: он увидел ее «лиловую, темную ауру». «Очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевой под глазами, с руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиною талией, черноволосая во всем черном, - казалась она r"eserv"ee. Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как, встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову, ей внимал; и - робел. „Ну - пошла“! И шурша черной, кажется, шелковой юбкой, пошла она к выходу; и А. А. за ней следовал, ей почтительно подавая пальто; было в ней что-то явно лиловое… Слово „темное“ с ней вязалось весьма; что-то было в ней „темное“». Перед смертью Блок вспомнил эту безумную зиму 1907 года, когда он «слепо отдался стихии» (Записка о «Двенадцати»). Впервые страсть опьянила его вином метели, закружила, оглушила. «Снежная дева» пела ему песню любви и гибели:
Рукавом моих метелей
Серебром моих веселий
Поразителен переход от «Нечаянной Радости» к «Снежной маске». Там - неподвижность, тишина, туман над болотом, дурманный запах Ночной фиалки; здесь - вихрь, вьюга, лёт над бездной, звонкий рог метелей, бездонная синева зимнего неба, сверкание срывающихся звезд:
Метель взвилась,
Звезда сорвалась,
За ней - другая…
И звезда за звездой
Понеслась,
Открывая
Вихрем звездным
Новые бездны.
Все изменилось - и ритмы, и звуки, и весь мир.
Блок не жил, а летел, ликуя и задыхаясь от полета. Тридцать стихотворений цикла «Снежной маски», названного в рукописи «Лирической поэмой», были написаны в две недели (с 23 декабря 1906 по 13 января 1907 г.). Такого напряжения и вдохновения он никогда еще не переживал. Восторг не остывал и торжественной своей музыкой заглушал и чувство вины, и предчувствие гибели. Он писал матери: «Пока я живу таким ускоренным темпом, как в эту зиму, - я „доволен“, но очень допускаю, что могу почувствовать отчаяние, если ослабится этот темп». («Я пала так низко, что даже Ангелы не могут поддержать меня своими большими крыльями, - говорит Беатриса».) Даже физически Блок изменился; увидев его после долгой разлуки, Белый был поражен его видом: ничего в нем не осталось от потухшего, посеревшего Блока 1906 года, который походил на ущербный месяц, перекрививший рот. Он снова отпустил волосы (в 1906 году был стриженый); во всей фигуре его чувствовалась закаленность и спокойное мужество; он стал проще, задумчивей; былая душевность перегорела в нем - и за ней открылось синее звездное небо. «Звезды- из ночи, - пишет Белый, - из ночи трагедии; я из ночи трагедии чувствовал Блока в ту ночь: и понял, что кончился в нем период теней или нечисти из „Нечаянной Радости“; ночью темной ведь нет и теней, есть спокойная ровная тьма, осиянная звездами; передо мною сидел Блок, перешедший черту „Снежной маски“».
В эту зиму поэт был особенно красив. В. Н. Княжнин его описывает: «Лицо обычно сурово, но улыбка преображает его совершенно: такой нежной, отдающей всего себя улыбки, другой такой улыбки мне сейчас не вспомнить… Но лицо бывает разным. Иногда оно- прекрасный слепок с античного бога, иногда в нем что-то птичье… Но это редко. Почти всегда оно - выражение сосредоточенной силы, впечатление иностранца моряка, рожденного в Дюнкирхене или на Гельголанде; мерная поступь, мускулистый торс, ничего дряблого; за внешней суровостью- бездна доброты, но не сентиментальности. Только раз я наблюдал его яростно гневным, но и эта ярость клокотала где-то внутри и внешне была почти что бесстрастной: без крика, без жестов, но тем страшнее».
Белый с большим мастерством зарисовал влюбленного Блока в фойе театра Комиссаржевской. Шла премьера «Пеллеаса и Мелизанды» Метерлинка. Поэт стоял у стены, разговаривал с какою-то дамой. «Стоял он, подняв кверху голову и обнаруживая прекрасную шею, с надменною полуулыбкой, которая у него появилась в то время, которая так к нему шла. Шапка светлых и будто дымящих курчавых волос гармонировала с порозовевшим лицом; сквозь надменное выражение губ я заметил тревогу во взгляде его; помахивая белой розой, не обращал он внимания на налезавшую даму, блуждая глазами по залу, и точно отыскивал кого-то; вдруг взгляд его изменился; стал он зорким; глазами нацелился он в одну точку и медленно повернул свою голову; тут он мне опять напомнил портрет Оскара Уайльда… Потом рассеянно очень откланялся и быстрыми, легкими молодыми шагами почти побежал через толпу, разрезая пространство фойе; развевались от талии фалды его незастегнутого сюртука». Блок бежал навстречу той, которой он посвятил «Снежную маску»: «Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города». С. Городецкий запомнил ночь на башне Вячеслава Иванова, когда Блок читал стихи из «Снежной маски». «Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Л. Д. Зиновьева-Аннибал в хитоне… Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав и Аничков или еще кто-нибудь делали сообщение на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. п. Спорили бурно и долго. После диспута к утру начиналось чтение стихов… В своем длинном сюртуке, с изысканно-небрежно повязанным мягким галстуком, в нимбе пепельно-золотых волос, Блок был романтически прекрасен тогда… Он медленно выходил к столу со свечами, обводил всех каменными глазами и сам окаменевал, пока тишина не достигала беззвучия. И давал голос, мучительно-хорошо держа строфу и чуть замедляя темп на рифмах… Все были влюблены в него…»
Наталья Николаевна Волохова - артистка театра Комиссаржевской; она освещена волшебным блеском рампы, окружена романтическим ореолом театра; лицо ее скрыто под маской актрисы; тонкая фигура движется на фоне стилизованной декорации; перед ней- темный провал зрительного зала, влюбленная толпа. Любовь Блока залита электрическим светом театральных прожекторов; в ней действительность сплетена со сценической иллюзией, правда жизни с «блистательной ложью» искусства. Его возлюбленная - «Снежная маска», полуявь, полусон, и реальная женщина, и видение поэта. Раздвигается занавес, звучит музыка, сверкает рампа, - на сцене появляется Она.
Я был смущенный и веселый.
Меня дразнил твой темный шелк,
Когда твой занавес тяжелый
Раздвинулся - театр умолк.
Живым огнем разъединило
Нас рампы светлое кольцо,
И музыка преобразила
И обожгла твое лицо.
И вот, опять сияют свечи,
Душа одна, душа слепа…
Твои блистательные плечи,
Тобою пьяная толпа…
Звезда, ушедшая от мира,
Ты над равниной вдалеке…
Дрожит серебряная лира
В твоей протянутой руке…
В наружности поэта эпохи «Снежной маски» был «артистизм», законченная красота произведения искусства. Как будто и он стоял на подмостках, талантливо играя роль прекрасного влюбленного поэта. Блок с надменной улыбкой и с белой розой в руке, ищущий глазами Ее в фойе театра; Блок, читающий стихи «на башне» при свете канделябров, на фоне окна, выходящего в звездную ночь, - кажется героем романтической поэмы. Это впечатление «творимой жизни» остро передает Б. Эйхенбаум в статье «Судьба Блока». «Блок стал для нас трагическим актером, играющим самого себя… Юношеский облик его сливался с его поэзией, как грим трагического актера с его монологом. Когда Блок появлялся - становилось почти жутко: так похож он был на самого себя. Какой-то юнга с северного корабля - гибкий и вместе с тем немного неловкий, немного угловатый в своих движениях юноша, порывистый и странно-спокойный, с улыбкой почти детской и вместе с тем загадочной, с голосом грудным, но глухим и монотонным, с глазами слишком прозрачными, в которых точно отсвечивались бледные волны северных морей, с лицом юношески нежным, но как будто „обожженным лучами полярного сияния“.
Претворение жизни в искусство, превращение живого лица в маску трагического актера - страшный „рок“ Блока. Он знал неизбежность этого пути. „Подлинной жизни у меня нет, - писал он матери. - Хочу, чтобы она была продана, по крайней мере, за неподдельное золото (как у Альбериха ), а не за домашние очаги и страхи (как у Жени ). Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить, а жизнь и профессия несовместимы“. Рыцарь Прекрасной Дамы примиряется с судьбой литератора-профессионала.
В конце января 1907 года скончался отец Любови Дмитриевны- Дмитрий Иванович Менделеев. Весь Петербург был на похоронах знаменитого ученого. Отец оставил дочери небольшое наследство: она начала брать уроки дикции и пластики, готовясь к поступлению на сцену.
Жизнь Блоков шла „ускоренным темпом“. Поэт выступает в „Кружке молодежи“ при Петербургском университете, читает там „Незнакомку“, посещает религиозно-философские собрания, увлекается операми Вагнера и новыми постановками Художественного театра („Горе от ума“ и „Брандт“); сопровождает Н. Н. Волохову на спектакли театра Комиссаржевской. Часто по вечерам у Блоков собираются актеры, поэты, художники. В конце января А. А. читает у себя пьесу „Незнакомка“ и стихи из „Снежной маски“ в присутствии Сологуба, В. Иванова, Чулкова, Пяста, Гофмана, Кондратьева и Городецкого. В феврале К. А. Сомов по заказу „Золотого руна“ пишет его портрет: во время сеансов приходит М. А. Кузмин и другие поэты. Портрет Блоку не нравится: художник отяжелил его лицо, подчеркнул чувственную припухлость губ, женственную округлость подбородка и тусклую неподвижность взгляда.
Но под светской жизнью молодого поэта таилось „веселье гибели“. Он писал:
Нет исхода из вьюги,
И погибнут», мне весело,
Завела в очарованный круг,
Серебром своих вьюг занавесила…
В письме к Е. П. Иванову он просил: «Милый, верь мне, сейчас я имею право просить у тебя этого. Верь, главное, тому, что теперь страшно и плоскости больше нет».
Вместо плоскости, за вихрями и метелями открывалась - звездная пропасть:
Весны не будет, и не надо;
Крещеньем третьим будет - Смерть.
Но весна наступила, а с ней - разлука с Волоховой. 20 апреля Блок заносит в «Записную книжку». «Одна Наталия Николаевна- русская, со своей русской „случайностью“: не знающая, откуда она, гордая, красивая и свободная. С мелкими рабскими привычками и огромной свободой. Как-то мы в августе встретимся? Устали мы, чудовищно устали»… И другая запись: «Светлая всегда со мной. Она еще вернется ко мне. Уж немолод я, много „холодного белого дня“ в душе. Но и прекрасный вечер близок».
Весной Блоки сдали свою квартиру на Лахтинской улице. Любовь Дмитриевна уехала в Шахматово одна: Александр Александрович переселился к матери в гренадерские казармы: он ненадолго наезжал в Шахматове и снова возвращался в Петербург. Любовь Дмитриевна усердно готовилась к сцене, разучивала роли, занималась декламацией. Блок тосковал в городе и бродил по окрестностям. Вечером часто отправлялся с Чулковым в Озерки, Сестрорецк; пил красное вино. Г. И. Чулков вспоминает: «Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто (однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга), то нам не хотелось смотреть друг на друга. На это были причины». У нас есть основания предполагать, что одной из этих причин были сложные отношения Чулкова с Любовью Дмитриевной. Уже к осени между друзьями началось расхождение, приведшее через год к полному разрыву. 28 сентября Блок писал матери: «С Чулковым вижусь изредка, всегда неприятно и для него и для себя».
Из впечатлений о скитаниях за городом и поездках в Сестрорецк, Шувалово и на Дюны выросла небольшая описательно-повествовательная поэма «Вольные мысли», которую поэт посвятил своему неизменному спутнику - Чулкову.
Группа журнала «Весы» бойкотировала издателя «Золотого руна» Н. П. Рябушинского. Летом он предложил Блоку заведовать в его журнале литературным отделом. Белый, обстреливавший петербуржцев из «Весов» и жестоко нападавший на Блока, окончательно разъярился. Тон его выходок против автора «Балаганчика» становился почти неприличным. О литературных нравах эпохи Брюсов пишет отцу (21 июня 1907 г.): «Среди декадентов, как ты видишь отчасти по „Весам“, идут всевозможные распри. Все четыре фракции декадентов: „Скорпионы“, „Золоторунцы“, „Перевальщики“ и „Оры“ - в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят друг друга, иначе не проживешь. Ты читал, как мы нападали на „петербургских литераторов“ („Штемпелеванная калоша“, статья А. Белого): это - выпад против „Ор“ и в частности против А. Блока. Этот Блок отвечает нам в „Золотом руне“, которое радо отплатить нам бранью на брань. Конечно, не смолчит и „Перевал“!.. Одним словом - бой по всей линии».
С июля 1907 года начали появляться в «Золотом руне» литературные обзоры Блока. В первом из них («О реалистах») перед нами новое лицо поэта, лицо, обращенное к народу, земле, России. Это больше не юноша-мечтатель и мистик, это - Блок, взрослый, печальный, сосредоточенно-серьезный. Он пишет о писателях общественных, бытовиках и революционерах, объединившихся вокруг сборников «Знание». В модернистических кругах считалось хорошим тоном презирать эту «серую» литературу. Блок этого предубеждения не разделяет. Он защищает Горького от «утонченной» критики Философова и от тенденции Мережковского видеть в авторе «Фомы Гордеева» только «внутреннего босяка» и «грядущего хама». Автор уверен, что за всеми банальностями Горького прячется «та громадная тоска, которой нет названья и меры нет». «Я утверждаю далее, - пишет он, - что если и есть реальное понятие „Россия“ или лучше - „Русь“, если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем „Руси“, - то выразителем его приходится считать в громадной степени Горького». В этих словах - смелый вызов теоретикам символизма Белому и Мережковскому. Мы уже слышим голос будущего автора «Стихов о России». Не менее сочувственно отношение Блока к Леониду Андрееву. Внимательно разобрав его повесть «Иуда Искариот и другие» он заключает: «Можно сказать, что Андреев - на границе трагедии, которой ждем и по которой томимся все мы. Он - один из немногих, на кого мы можем возлагать надежды, что развеется этот магический и лирический, хотя и прекрасный, но страшный сон, в котором коснеет наша литература…» Это - признание личное: поэту хочется проснуться от своего прекрасного, но страшного лирического сна- и увидеть настоящую жизнь. Даже второстепенные беллетристы-революционеры не отталкивают критика. «Это - „условная“ литература, - пишет он, - в которой бунт революции иногда совсем покрывает бунт души и голос толпы покрывает голос одного. Эта литература нужна массам, но кое-что в ней необходимо и интеллигенции. Полезно, когда ветер событий и мировая музыка заглушают музыку оторванных душ и их сокровенные сквознячки». Это уже близко к «музыке революции», которую слышал Блок, когда писал «Двенадцать». Статья заканчивается высокой оценкой романа Сологуба «Мелкий бес» и новым и страшным «личным признанием»: «…и бывает, что всякий человек становится Передоновым (герой „Мелкого беса“). И бывает, что погаснет фонарь светлого сердца у такого ищущего человека и „вечная женственность“, которой искал он, обратится в дымную синеватую Недотыкомку. Так бывает и это бесполезно скрывать… И положение таких людей, как Передонов, думаю, реально мучительно: их карает земля, а не идея».
От таких просветов в бездну - кружится голова. Рыцарь прекрасной Дамы носил в себе гнусного Передонова и ждал кары от оскорбленной Матери-Земли. Все трагическое - просто: «так бывает и это бесполезно скрывать».
3 июля в «Золотом руне» появился второй литературный обзор Блока: «О лирике». Среди горных вершин, в лиловом сумраке залег человек, обладатель всего богатства мира, но нищий, не знающий, где преклонить голову. «Этот Человек- падший Ангел-Демон - первый лирик». Проклятую песенную и цветную легенду о нем создали Лермонтов и Врубель. Лирик ничего не дает людям; но люди приходят и берут. Лирик «нищ и светел»; но из «светлой щедрости» его люди создают несметные богатства. Так соединены в лирике и отрава, и зиждущая сила. Лирик говорит: «Так хочу». В этом лозунге его проклятие и благословение, его рабство и свобода. Он замкнут в «глубокой тюрьме» своего мира, в заколдованном круге своего «я». Он - заживо погребенный, он - одинокий. Из этих утверждений автор выводит «два общих места в назидание некоторым критикам». Первое общее место: «Лирика есть лирика, и поэт есть поэт». «Д. В. Философов и Андрей Белый, - пишет Блок, - начинают упрекать лирику в буржуазности, кощунственности, хулиганстве и т. д. Остается спросить, почему они не упрекают ее в безнравственности?.. Поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома». Второе общее место: «Поэты интересны тем, чем они отличаются друг от друга, а не тем, в чем они подобны друг другу». «Из этого следует, - продолжает Блок, - что группировка поэтов по школам, по „мироотношению“, по „способам восприятия“, труд праздный и неблагодарный… Никакие тенденции не властны над поэтами. Поэты не могут быть ни „эстетическими индивидуалистами“ ни „чистыми символистами“, ни „мистическими реалистами“, ни „мистическими анархистами“ или „соборными индивидуалистами“».
В таком сдержанном и благородном тоне отвечал Блок на «разбойные» нападения «москвичей».
Но выходки и инсинуации Белого наконец утомили Блока. В августе он пишет ему корректное письмо, в котором утверждает, что с никакими мистическими реализмами и анархизмами он не имеет ничего общего; что все до сих пор написанные им произведения кажутся ему символическими и романтическими; что он видит в них органическое продолжение «Стихов о Прекрасной Даме». «В заключение, - пишет он, - прошу Тебя, хотя бы кратко указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения. Этого пункта я не улавливаю, ибо, повторяю еще раз, к новейшим куцым теориям отношусь так же, как Ты».
До получения этого письма Белый отправил Блоку оскорбительное послание. Как и в начале их переписки- письма скрестились в пути. Белый писал:
«Милостивый Государь Александр Александрович, спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение серьезно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучился, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было бы неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за вами следить. Наконец, когда Ваше „прошение“ - pardon, статья о реалистах появилась в „Руне“, где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами стало излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что, если бы нам было суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, я с Вами поздороваюсь.
Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее».
На это письмо Блок ответил вызовом на дуэль. «8 августа 1907. Милостивый Государь Борис Николаевич, Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы уморительно клевещете на меня, заявляете, что все время „следили за мной издали“, - и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете „страдаете“ и никто, кроме Вас, не умеет страдать, - все это в достаточной степени надоело мне.
Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписать Ваше поведение или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами, или особого рода душевной болезни.
Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо, для того, чтобы Вы - или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, или прислали мне Вашего секунданта. Если до 18 августа Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры».
На следующий день Блок посылает взволнованное письмо Е. П. Иванову, в котором просит его быть секундантом. Иванов от секундантства уклоняется и умоляет его успокоиться и отказаться от дуэли. Блок не должен забывать, что в основе всей этой драмы - несчастная любовь Белого к Любови Дмитриевне. «Видно, - пишет Е. Иванов, - человек ожесточился в любви, и конечно, тут огромную роль играет и просто самолюбие оскорбленное, но и любовь, конечно, а это требует сочувствия».
Тем временем Белый получил письмо Блока от 6 августа и ответил ему 10-го; 11 августа получил вызов на дуэль и в тот же день написал второе письмо.
В первом письме (10 августа) Белый резюмирует свои обвинения: вокруг Блока в Петербурге образовалась группа «мистических хулиганов» - всевозможных мифотворцев, анархистов, индивидуалистов, которые на своих знаменах пишут его имя; Чулков в «Факелах» только и делает, что кричит «мы, мы» и ссылается на Блока и Иванова. Городецкий в своей статье «На светлом пути» изрек знаменитый афоризм: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что, как же иначе?» Наконец, Е. Семенов в «Mercure de France», распределив поэтов по «течениям», в группу «мистических анархистов» поместил В. Иванова, Чулкова, С. Городецкого и Блока. Все эти новые «измы» крикливо заявляют о «преодолении символизма»: ведь писал же Чулков в статье «Молодая поэзия» о новом литературном течении, возникшем после «Весов», и называя при этом имена В. Иванова и Блока! Почему же Блок молчит? Почему он не заявит в печати, что не сочувствует всем этим «измам», которые ему так усиленно навязывают? И Белый с жаром продолжает: «Я полтора года кричу Вам то письмами, то просто внутренним обращением к Вам: „Пойми же, пойми: ведь не личные отношения только в основе моего недоверия, непонимания Тебя. Если цель всего "Балаганчик", то ведь кажущиеся совпадения в самом главном - обман: а я хотя и разбился от ряда ошибок, но я не предам последнего: я знаю; я верю. И Вы - молчите…“»
В ответ на вызов на дуэль он пишет Блоку (11 августа) вдохновенное и искреннее письмо. Литературные недоразумения падают, как карточный домик; за ними открывается настоящая причина «распри» - трагедия отношений Блока, его жены и Белого.
«…То, что Вы пишете, - начинает он, - („грандиозное недоразумение“) очевидно совершенно справедливо. Вот уже полтора года, как Вы все сделали для того, чтобы недоразумение это не рассеялось, а, наоборот, укрепилось. После наших прошлогодних (в августе) недоразумений я откровенно сказал себе: „Должно быть, я неправ: надо выяснить“. Я повернулся к Вам с полной готовностью принять Ваши объяснения о характере наших отношений. Вы промолчали довольно оскорбительно для меня… А я так нуждался в этом, ибо действительно питал к Вам в глубине души такую симпатию, какую редко к кому питал. Я уехал за границу только потому, что питал к Вам симпатию (к Вам и к Вашей супруге); я думал, что расстояние внешнее рассеет путаницу наших отношений (в которой я был, быть может, столь же неправ, как и Вы; но я хотел правды, хотел честно произнесенных слов, а не неопределенно бездонных молчаний). Я ошибся… Я Baс продолжал ужасно любить и верить в Вас… Я хотел нашей перепиской подготовит: почву, чтобы гнетущее меня молчание рас сеялось и чтобы мы, наконец, при личной встрече увидели подлинные лица. Вы ответили опять письмом, общий тон которого мне показался обидным… Тут я и перестал Вам писать… Я начал тогда вчитываться в Ваши строчки, перечитывать Ваши письма, стихи: жадно ловить каждую Вашу печатную строчку… Вот этот-то интерес к Вашей личности и побудил меня сказать Вам, что я давно за Вами слежу. Вы поняли в буквальном и точном смысле („шпионство“). Вот когда я увидел, что пропасть между нами выросла до последних пределов». Письмо заканчивается отказом от дуэли и просьбой о личной встрече. «Как скоро, - пишет Белый, - Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только, но и сердцем понять, что же это, наконец, происходит между нами».
Перед нами необыкновенный человеческий документ. Белый отнимает у своего друга любимую жену, разбивает ему жизнь - тот молча устраняется с его пути. Но любовь Белого кончается трагическим разрывом, он несчастен, и ему нужно сочувствие друга, которого он едва не погубил. Его мучает и возмущает «бездонное молчание» Блока. И он мстит за него злобной и низкой литературной полемикой. Мы готовы сказать: у Блока не могло быть большего врага, чем Белый. И, действительно, никто в жизни не причинил ему столько зла, столько страданий. Но это - только половина правды; а другая половина в том, что никто, никогда не любил его, как Белый. Письмо, только что нами прочитанное, есть письмо влюбленного. Трагедия Белого заключалась в том, что он был влюблен не только в Любовь Дмитриевну, но и в Александра Александровича и что обе эти сумасшедшие его любви были глубоко несчастны. Отсюда все: и ненависть, и ревность, и подозрительность, и бешенство. Он поносил, оскорблял, высмеивал Блока и… «я Вас продолжал ужасно любить…».
На письмо Белого Блок отвечает изумительным посланием (15–17 августа), в котором с какой-то нечеловеческой проницательностью и правдивостью он рассказывает историю их роковой дружбы. «Наше письменное знакомство, - начинает он, - завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, сказалось различие наших темпераментов и странное несоответствие между нами - роковое, сказал бы я. Вот как это выразилось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня, и сверх всего (это самое главное) я чувствовал между нами таинственную близость, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистических переживаний (всегда высоких), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. Теперь вся разница только в том, что надо мной „холодный белый день“, а тогда я был „в тумане утреннем“… По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне всё те же огненные переживания, сменяющиеся мозговой ленью, плюс трезвость белого дня. Итак, я стою на том, что по существу не изменился. Теперь - далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и Драматическую Симфонию (не помню - до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности: я не разбирался в этой сложности. Знаю одно: мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам. Я объяснял это ленью. Ровно через год мы встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своею ленью. Но это было не единственной причиной. Причина, вероятно, главная, сказалась при следующих обстоятельствах. Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь при луне и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом, может быть, моя большая мистическая вина. В эту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы „разного духа“, что мы - духовные враги. Но я - очень скептик, тогда был мучительно скептик, - и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы почувствовали, что происходило во мне, как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое… Потом опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились благодаря тому, что известно Вам… Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг к другу, но делали это по-разному- и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою „моральную, философскую, религиозную физиономию“. Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями. Некоторых из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их Вам… Философского credo я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога - иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли?.. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я - очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность в уменьи быть человеком, - вольным, независимым и честным. Все это я пережил и ношу в себе, - свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу. И вот одно из моих психологических свойств: я предпочитаю людей идеям… Из этого предпочтения вытекает моя боязнь „обидеть“ человека…
Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана „Прага“ письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно… Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложишь всего. Теперь продолжаю- и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни… Но я здоров и прост, становлюсь все проще, как только могу…
Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я - лирик. Быть лириком- жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь - и ничего не останется. Веселье и жуть - сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.
Теперь о другом… Сердце мое по-прежнему лежит ближе к Вам, чем к „факельщикам“… Среди „факельщиков“ стоит особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубокого ума и души. Если я кощунствую, то кощунства мои с избытком покрываются стоянием на страже. Так было, так есть и так будет. Душа моя - часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же сомнения и страхи находят и на часового… „Мы друг другу чужды“, говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы верить лирику, каков я, то есть в худшем случае слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит нет, чем да? Примите во внимание, что речь идет обо мне, никогда не изменившемся по существу… Если же все это так, то признайтесь: надоело Вам считаться с такой зыблемой, лирической душой, как моя… НО тут я и спрашиваю Вас, „как на духу“, по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы вернее меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки - я верен. В основании моей души лежит не Балаганчик, клянусь».
В конце письма Блок говорит, что согласен со всеми упреками Белого насчет «мистического анархизма», и обещает ему объявить в печати о своей непричастности к этому «течению». Письмо заканчивается словами: «Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. Может быть, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинностей друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом - невозможно».
Письмо Блока не только высокое, художественное произведение, но и единственная в нашей литературе лирическая исповедь. Это- самонаблюдение ясновидца. Образ поэта-слепца с покрывалом «жути и веселья» на глазах, ведомого Неведомо Страшным; несменяемого часового, охраняющего святыню; верного стража, несмотря на все измены и падения; вольного и цельного человека, несущего свою человечность, как крест; мистика с «огненными переживаниями» и «холодом белого дня в душе» - этот образ незабываем.
Постижение рокового смысла дружбы с Белым, основанной на чувстве таинственной близости и мистического страха, возносит отношения двух друзей-врагов на высоту трагедии. Белый был поражен этим письмом; он отвечает Блоку: «Ваше письмо произвело на меня глубокое и сильное впечатление. Многое понял о Вас я достоверно. Весь трагизм выраставшего непонимания Вас с моей стороны, быть может, оттого, что это письмо написано не полтора года тому назад. Вероятно, Вы не подозревали о том, как перемучился я сомнениями о Вас за истекшие полтора года… Ваше письмо для меня - факт громадной важности, ибо я действительно считал всегда наши отношения роковыми (независимо от разности или сходства, независимо от созданного положения вещей между нами)… Мне думается, было бы важно, нужно нам увидеться… Жду очень или Вас, или письма с указанием на Ваш адрес. Верьте, я принял Ваше письмо с той же глубиной искренности, с какой оно написано Вами. Спасибо! Крепко жму Вашу руку. Глубоко уважающий Вас Борис Бугаев».
24 августа Блок приехал в Москву. «Помню, - пишет Белый, - что в день приезда Александра Александровича - я волновался ужасно». В семь часов раздался звонок: Блок в темном пальто и в темной шляпе, загорелый и улыбающийся стоял на пороге. Между друзьями произошел разговор, продолжавшийся двенадцать часов. Им обоим было радостно: казалось, что вернулось прошлое; они снова нашли друг друга. Блок считал, что запутал их отношения главным образом С. Соловьев. Белый обвинял Любовь Дмитриевну: это она отравила их дружбу. Наконец, было решено в будущем верить друг другу, что бы ни случилось, и «отделять личные отношения от полемики, литературы, от отношений к Любови Дмитриевне, к Сергию Михайловичу (Соловьеву), к Александре Андреевне». Говорили о «Золотом руне», о ссоре Брюсова с Рябушинским, о Чулкове и мистическом анархизме. «Во многих вопросах литературной полемики, - пишет Белый, - мы расходились с Александром Александровичем; но теперь в расхождении этом уже не было страстности: мы решили, что будем и впредь в разных группах; и будем мы даже идейно бороться; но пусть эта борьба не заслоняет доверия и уважения друг к другу». В 11 часов ночи мать Белого позвала их к чаю: она нежно любила Блока и радовалась примирению. Всем было легко и уютно; Александр Александрович с серьезным лицом говорил смешные вещи. После чая - разговор друзей продолжался до четырех часов ночи. Поезд в Петербург уходил в семь. Белый провожал Блока по светавшей Москве; около Николаевского вокзала они сидели в чайной с извозчиками. На прощанье Блок сказал: «Так будем же верить. И не позволим людям, кто б они ни были, стоять между нами». Белый заканчивает свой рассказ: «Так сердечно окончился 12-ти часовой разговор (от семи до семи). На прошлом поставил я крест: им зачеркнута в принципе для меня Щ. (то есть Любовь Дмитриевна)».
Узнав от Белого о статье Семенова в «Mercure de France», Блок немедленно пишет Чулкову (17 августа): «Весы» меня считают мистическим анархистом из-за «Mercure de France». Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом А. Белый, с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму по существу я совсем не имею никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою зыблемостъ, неверность. Я же
Неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду,
Храня незыблемую душу
В моем неслыханном аду.
Это - первое. Второе - это то, что я не относился к мистическому анархизму никогда как к теории, а воспринимал его лирически. По всему этому не только не считаю себя мистическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатно, в письме в редакцию, например, «Весов».
26 августа он посылает Чулкову текст своего письма в редакцию «Весов» и прибавляет: «Я сделаю это в „Весах“, потому что глубоко уважаю „Весы“ (хотя во многом не согласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с „Новым путем“. „Весы“ и были и есть событие для меня, а по-моему, и вообще событие, и самый цельный и боевой теперь журнал… Подчеркнуть мою несолидарность с мистическим анархизмом в такой решительной форме считаю своим мистическим долгом теперь. Мистическому анархизму я никогда не придавал значения, и он был бы, по моему мнению, забыт, если бы его не раздули теперь».
23 сентября произошла полная капитуляция «мистического анархизма». В этот день Чулков, В. Иванов и Блок публично отреклись от этого злополучного «течения». Чулков в письме в редакцию газеты «Товарищ» протестовал против классификации писателей и утверждал, что мистический анархизм не литературная школа, а новое мироотношение. В том же номере «Товарища» В. Иванов торжественно отрекся от этого «мироотношения». В этот же день Блок в письме в редакцию «Весов» писал:
«М. Г. Господин Редактор.
Прошу Вас поместить в Вашем уважаемом журнале нижеследующее: в № „Mercure de France“ от 16 июля г. Семенов приводит какую-то тенденциозную схему, в которой современные русские поэты-символисты рассажены в клетки „декадентства“, „неохристианской мистики“ и „мистического анархизма“. Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких; о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна; и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в общую клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с „мистическим анархизмом“, о чем свидетельствуют мои стихи и проза».
Двенадцатичасовой разговор с Белым открыл Блоку глаза на двусмысленность его положения в группе петербургских литераторов. Он отходит не только от Чулкова и Городецкого, но и от «дионисийца» В. Иванова. В «Записной книжке» читаем: «Мое несогласие с В. Ивановым в терминологии и пафосе (особенно последнее). Его термины меня могут оскорблять: миф, соборность, варварство. Почему не сказать проще? Ведь по существу - в этом ничего нового нет».
И дальше: «Мое несогласие с В. Ивановым („варварство“). Мое согласие с Андреем Белым. Не считаю ни для себя, ни для кого позором учиться у А. Белого, я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать».
И третья заметка: «В. Иванов. Неприятен мне его душевный эротизм и противноватая легкость».
Блок освобождается от насилия литературных друзей: он хочет быть «сам по себе» и «сохранить свою душу незыблемой».
Осенью Блоки сняли квартиру на Галерной улице: четыре небольшие комнаты, выходящие в коридор; квартира была во дворе, на втором этаже, довольно мрачная. Любовь Дмитриевна, получившая наследство от отца, купила стулья красного дерева и книжный шкаф с бронзовым амуром. Этот амур знаком нам по стихам Блока. В «Снежной маске» стихотворение «Под масками» заканчивается строфой:
А в шкапу дремали книги.
Там - к резной старинной дверце
Прилепился голый мальчик
На одном крыле.
Такая же концовка с амуром в стихотворении «Бледные сказанья»:
И потерянный, влюбленный,
Не умеет прицепиться
Улетевший с книжной дверцы
В середине сентября Александра Андреевна переехала в Ревель, где Франц Феликсович получил полк. Разлука с сыном удручала ее, а обязанности командирши в чужом городе внушали настоящий ужас.
Сентябрьские письма Блока к матери полны грусти. «Народу я видел много, - пишет он, - и все это было грустно; все какие-то скрытные, себе на уме, сохраняющие себя от вторжения других. Кажется, я и сам такой» (20 сентября). «Мама, я долго не пишу, а мало пишу от большого количества забот - крупных и мелких. Крупные касаются жизни - Любы, Наталии Николаевны и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Мелкие заботы - литературные: ему приходится писать много статей и рецензий; хочет заниматься историей театра и русским расколом. Драма «Песня Судьбы» подвигается медленно. Он познакомился с Л. Андреевым и был на его первой «среде». Присутствовали Юшкевич, Чириков, Сергеев-Ценский, Волынский, Тан. У Андреева болел зуб, и Блок, по его просьбе, читал его новый рассказ «Тьма». «Андреев, - пишет он, - простой, милый, серьезный и задумчивый». К Блоку ходят поэты за советами, редакторы и гости; театральная жизнь прекратилась. «Наталию Николаевну, - прибавляет он, - я вижу не часто».
В сентябре появляется в «Золотом руне» третий обширный литературный обзор Блока «О драме». Драма в России, утверждает автор, всегда была случайна: в ней отсутствует не только техника, язык и пафос- в ней нет еще и действия. Бесчисленные драмы писателей группы «Знание» поражают своим ничтожеством. Символические драмы, как «Земля» Брюсова и «Тантал» В. Иванова, - случайны и не национальны. Автор выделяет «Жизнь человека» Андреева, которой он расточает преувеличенные похвалы, и «Комедию о Евдокии из Гелиополя» М. Кузмина. Чем можно объяснить убожество современного русского театра? Блок полагает, что виновата в этом «гибкая, лукавая, коварная лирика». Ею отравлена наша эпоха. «Кажется, - пишет он, - самый воздух напоен лирикой, потому что вольные движения исчезли так же, как сильные страсти, и громкий голос сменился шепотом. Тончайшие лирические яды разъели простые колонны и крепкие цепи, поддерживающие и связующие драму».
О «проклятии» лирики Блок писал в статье «О лирике», о «зыблемости неверности» души лирика - в письме к Белому. Свой великий песенный дар он все более и более воспринимал как страшную и гибельную судьбу.
4 октября киевский журнал «В мире искусства» устроил «вечер искусства», на который были приглашены Белый, Блок, С. А. Соколов-Кречетов и Нина Петровская. Киев был заклеен афишами, на которых изображался какой-то лохматый фавн. Белый и Блок поселились в одной гостинице; оба были смущены провинциальной рекламой и безвкусицей. Они должны были выступать в оперном театре, вмещающем 3500 человек; все билеты были распроданы. Белый вспоминает, как Блок, умываясь с дороги, мылил руки и улыбался лукаво: «А знаешь - ведь как-то не так; даже очень не так: не побили б нас!» И- вырывался смешок - тот особый глубокий смешок, от которого становилось невыразимо уютно; смешок этот редок был в Блоке; и мало кто знает его; в нем доверчивость детская и беззлобная шутка над миром и над собою, над собеседником; все становилось от смешка освещенным особо; и - чуть-чуть «диккенсовским», чуть-чуть фантастическим; мерещились Пикквики.
Наступил вечер. Белый с пышного возвышения над оркестром охрипшим голосом кратко объяснил киевлянам, что такое символическое искусство. Потом читали: Н. Петровская, Блок, проф. де ля Барт и С. Соколов. Белый пишет: «Вечер был полным „скандалом“: и представители нового направления, вызванные из Петербурга и из Москвы с такой помпой, торжественно провалились бы в Киеве, если бы не выручил С. А. Соколов». По свойственной ему нервности Белый преувеличивает «скандал». Блок сообщает матери: «Вечер сошел очень хорошо… Успех был изрядный». После вечера состоялся раут в ресторане, с речами и тостами. На следующий день приходили студенты, журналисты, литераторы, тенора; поэтов возили по городу и угощали в ресторанах. Киев показался Блоку «скучным и плоским». Но вид на город издали поразил его своим мрачным романтизмом. Он пишет матери: «Можно стоять в сумерки на высокой горе: по одну сторону - загородная тюрьма, окопанная рвом. Красная луна встает, и часовые ходят. А впереди- высокий бурьян (в нем иногда находят трупы убитых). За бурьяном- весь Киев амфитеатром - белый и золотой от церквей, пока на него не хлынули сумерки. А позже - Киев весь в огнях и далеко за ним моря железнодорожного электричества и синяя мгла».
6 октября Белый должен был читать лекцию, и Блок остался с ним в Киеве еще на один день. «Мы почти не спали, - сообщает он матери, - днем не отставали люди, а по ночам мы говорили с Борей - очень хорошо». Ночью, накануне лекции, с Белым случился сильный нервный припадок. В это время в Киеве была эпидемия холеры, и мнительный поэт вообразил, что он заразился. Полуодетый, он прибежал к Блоку. Разбудил его и заявил, что у него начало холеры. Блок провозился с ним всю ночь, успокаивал, растирал руки. «Не забуду внимания, - вспоминает Белый, - которым меня окружил он». Успокоившись, он стал жаловаться другу на свое одиночество, на свою несчастную жизнь. Вдруг Блок сказал: «Знаешь что: возвращаться в Москву одному тебе нехорошо; вот что я предлагаю: мы едем с тобою в Петербург». Белый стал говорить о своей ссоре с Любовью Дмитриевной; Блок возразил, что причины для ссоры больше нет, что давно пора примириться. «А что же скажет Любовь Дмитриевна при моем неожиданном появлении?» - спросил Белый. Блок ответил: «Да она уже знает, мы с ней говорили». Сколько великодушия, человеческой доброты и жалости к «несчастному Боре» было в этом поступке Блока!
К утру припадок Белого прошел; но он еще хрипел, и Блок предложил прочесть за него лекцию по рукописи. Внимательно ее изучал. Но вечером к Белому вернулся голос и он с большим успехом прочел лекцию. «В этот вечер, - пишет он, - Александр Александрович с нежнейшей заботливостью не оставлял ни на шаг одного меня: сидел в лекторской рядом со мной; приносил мне горячего чаю… После лекции закутал мне горло, чтобы я не простудился». 8 октября в дождливое холодное утро они прибыли в Петербург. Блок довез Белого до H^otel d"Angleterre и, прощаясь, сказал: «Теперь я поеду - предупредить надо Любу, а ты приходи к нам завтракать; да не бойся!»
Белый с волнением ждал «объяснения» с Любовью Дмитриевной - но объяснения не было. Она встретила его просто, но он сразу понял, что к прошлому возвращаться она не хочет. Его поразила перемена в ней; ему показалось, что она похудела и выросла; прежде была тихой, молчаливой, углубленной, теперь говорила много, стремительно и экзальтированно. Любовь Дмитриевна готовилась к сцене, вела бурную светскую жизнь, была полна всяческих забот и суеты. Между ней и Белым установился тон легкой шутливой causerie. Белый заметил, что весь стиль жизни Блоков резко изменился. «Александр Александрович и Любовь Дмитриевна, - пишет он, - окружали себя будто вихрем веселья; и несет этот вихрь их не вместе: Любовь Дмитриевна улетает на вихре веселья от жизни с Александром Александровичем; и Александр Александрович летит прочь от нее; я заметил, они разлетаются, собираясь за чайным столом, за обедом; и вновь - разлетаются; я видел, веселье это - веселье трагедии и полета над бездной»… Все интересы супругов сосредоточивались вокруг театра, и жизнь их была театральна: не мистерия, о которой мечтали они в юности, a commedia dell"arte.
Вечерами часто сидели впятером: Любовь Дмитриевна, ее подруга, веселая блондинка актриса Веригина, Н. Н. Волохова, Блок и Белый. Постоянно бывали Мейерхольд, Кузмин, Городецкий, художник Сомов. Блок жалуется матери: «Все дни - люди и на людях, даже Люба устает страшно и почти ни минуты не остается одна…» И в другом письме: «Я постоянно занят - это спасает». И еще через несколько дней: «Рассылаю стихи, строю планы, и за всем этим проходит все время, кроме того, когда я шатаюсь по улицам - в кинематографах и пивных».
Журнальные дела звали Белого в Москву. На прощанье Любовь Дмитриевна ему сказала: «Переезжайте же к нам в Петербург: я ручаюсь вам - будет весело». И Белый меланхолически прибавляет: «Слова „весело“, „веселиться“ - казались мне наиболее частыми словами в словаре Любови Дмитриевны». В Москве кипела литературная жизнь: образовалось «Общество свободной эстетики», заседания которого происходили в Литературно-художественном кружке; в нем участвовали Брюсов, Эллис, Балтрушайтис, Садовский, художник Серов и коллекционер Гиршман; оживилось московское Религиозно-философское общество с переездом в Москву С. Н. Булгакова; П. И. д"Альгейм устраивал «Дом песни» и поручил Белому организовать при нем литературный отдел; наконец, у М. К. Морозовой, на Смоленском бульваре, собирался «философский кружок» молодежи, в котором читали доклады: И. А. Ильин, Б. А. Фохт, Г. Г. Шпет, Б. П. Вышеславцев, кн. Е. Н. Трубецкой, А. К. Топорков. Но Белый все это бросил и в начале ноября переехал в Петербург, с намерением поселиться в нем окончательно. Он решил добиться решительного ответа от Любови Дмитриевны. Объяснение наконец произошло. «Я, как Фома, - пишет Белый, - палец вложил в рану наших мучительных отношений, и я убедился, что суть непонятного в Щ. для меня в том, что Щ. понимания не требует: все- слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней… Последнее мое слово о Щ.: - „Кукла“!»
Это значит: он понял, что Любовь Дмитриевна его не любит. Как он возмущался еще недавно, что «Прекрасная Дама» оказалась в «Балаганчике» - «картонной невестой». А вот теперь сам говорит о ней «последнее слово» - «кукла». Белый прожил в Петербурге недолго; к Блокам почти не ходил. Александр Александрович кратко сообщает матери: «Приехал на днях Боря, был у нас два раза. Будет у нас не очень часто». Белый скоро вернулся в Москву. В его отношениях с Блоком наступила мертвая полоса: она продолжалась три года.
А Блок продолжал жить сложной, запутанной, мучительной жизнью: много выступал на концертах, сбор с которых поступал в пользу «политических преступников». У него завелись конспиративные отношения с каким-то «товарищем Андреем» и молодой революционеркой Зверевой. Любовь Дмитриевна училась дикции у артистки Д. М. Мусиной и танцам у балетмейстера Преснякова. О своей жизни поэт рассказывает матери в письме от 27 ноября: «Мама, сейчас вот ночь, и я вернулся рано, по редкости случая трезвый, потому что Наталья Николаевна не пустила меня в театральный клуб играть в лото и пить. Сижу и жду Любу, которая уехала куда-то… Сейчас мы были вместе на концерте Олениной. 30-го мы с H. H. читаем на концерте, 1-го она играет Фру Сольнес, 5-го мы втроем на Дункан, 6-го читаем „Незнакомку“ в „Новом театре“ по ролям (Н. Н. - Незнакомка, я - „голубой“; Мейерхольд, Давидовский и др.). 10-го опять Дункан… Днем я теперь пищу большую критику в „Руно“, а Н. Н. занимается ролью, а по вечерам мы видимся у нее, в ресторанах, на островах и прочее. Снег перепадает и резкий ветер… Знаешь ли ты, то Люба едет с Мейерхольдом на пост и на лето в поездку (с труппой) в западные города, потом на Кавказ, потом м. б. в Крым с Н. Н. (летом)… H. H. останется первый месяц поста здесь, а потом присоединится к труппе (на Кавказе). Может быть, и я поеду?»
Такова внешняя история его жизни. А вот- внутренняя (письмо к матери от 9 декабря 1907 г.): «…жить становится все трудней- очень холодно. Бессмысленное прожигание больших денег и полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море… На всем острове - только мы втроем, как-то странно относящиеся друг к другу - все очень тесно… Все мы тоскуем по разному. Я знаю, что должен и имею возможность найти профессию и надежду в творчестве… Но не имею сил - так холодно. Тем двум женщинам с ищущими душами, очень разными, но в чем-то неимоверно похожими, - тоже страшно и холодно… Моя тоска не имеет характера беспредметности- я слишком много вижу ясно и трезво и слишком со многим связан в жизни… Сейчас я сижу один, - вечер, через час воротятся Люба и, вероятно, H. H. из Старинного театра… Я вышел из ванны, так что предаюсь грустным мыслям с комфортом. Но вины не чувствую». Остров в холодном море и на нем три человека, «как-то странно относящиеся друг к другу» и тоскующие «по разному», - и никто не виноват- все одинаково несчастны. Об этом холодном одиночестве втроем поют метели «Снежной Маски» и «Земли в снегу». О «безумном годе», проведенном у «шлейфа черного», поэт загадочно и туманно рассказывает в «сказке о той, которая не поймет ее». Это самое манерное, самое «декадентское» из всех его произведений. Но под вычурными аллегориями: «золотыми змеями в темном кубке с вином», «безобразными карликами, летящими за шлейфом своей госпожи», «золотым и тонким стилетом, которым схвачены ее черные волосы», за всем душным демонизмом и эстетизмом этого наброска- можно отгадать что-то глубоко утаенное в душе поэта…
«Уже тонкие чары темной женщины, - пишет Блок, - не давали ему по ночам сомкнуть глаз, уже лицо его пылало от возрастающей страсти и веки тяжелели, как свинец, от бессонной мысли. И она принимала в его воображении образ страшный и влекущий: то казалась она ему змеей, и шелковые ее платья были тогда свистящею меж трав змеиной чешуёю; то являлась она ему в венце из звезд и в тяжелом наряде, осыпанном звездами. И уже не знал он, где сон, где явь, проводя медлительные часы над спинкой кресла, в котором она молчала и дремала, как ленивая львица, озаренная потухающими углями камина. И, целуя ее осыпанную кольцами руку, он обжигал уста прикосновением камней, холодных и драгоценных. Она же любила пройти с ним по зале, и на многолюдстве любила она уронить платок, чтобы он первый поднял его, и взглянуть в глаза его обещающими глазами, чтобы он смутился и стал еще тоньше, выше и гибче, чтобы резко оттолкнул восхищенного ею юношу, открывая путь ей в толпе.
Раз ночью она пришла к нему и была сама „как беспокойная ночь, полная злых видений и темных помыслов“. Голосом „более страстным и более нежным, чем всегда“, она просила его совершить великое предательство, „взяла с него горестную клятву“ и первая предалась ему. Но он не сдержал своей клятвы, и измена не коснулась его сердца. „Навеки безвозвратная, уходила она, негодуя и унося в сердце оскорбление за нарушенную им клятву“. Он вышел на улицу: над ним простиралось осеннее и глубокое небо; в душе его боролись Великая Страсть и Великая Тишина. И Тишина побеждала. А там - вставала над землею грозящая комета, разметая свой яростный шлейф над Тишиною».
В этой странной сказке - лирический комментарий к стихам «Снежной Маски». «Темная женщина», «змея», «комета» - три образа той, которая:
Завела, сковала взорами,
И рукою обняла,
И холодными призорами
Белой смерти предала…
Она искушала сердце поэта соблазном «великого предательства» и покинула его навсегда, взвившись в небе яростной кометой…
1906 и 1907 года- самые трагические и самые творчески напряженные в жизни Блока. Все существо его потрясено; он «слепо отдается стихии» и из отчаяния, страсти и гибели создает «произведения искусства». Он сознает, что жизнь проиграна, но хочет, по крайней мере, продать ее дорого «за чистое золото» поэзии.
В 1907 году, кроме ряда больших критических обзоров и рецензий, он пишет вторую «лирическую статью»: «Девушка розовой калитки и Муравьиный царь». Поэт вспоминает о своей жизни в южной Германии, на курорте Бад-Наугейм. Старый романтический городок, с высоким готическим собором и таинственным садом, разбитым на валу замка. Страна германской легенды; аллея, круто взбегающая вверх, утопает в розах и георгинах. Кажется, что в розовых кустах мелькают средневековые пажи, гибкие и смеющиеся мальчики: они ищут Госпожу и не находят. Ее нельзя найти. Госпожа «с непробудными синими глазами» - только видение. Далекая, она никогда не приближается, но вместо нее приходит хорошенькая дочь привратника с льняными косами. Ее можно целовать, на ней можно жениться и потом открыть булочную на Burgerstrasse. A мечтательные пажи по-прежнему будут называть ее «Девушкой розовой калитки». «Весь романтизм в этом, - продолжает автор. - Искони на Западе искали Елену - недостижимую совершенную красоту… Неподвижный рыцарь - Запад - все забыл, заглядевшись из-под забрала на небесные розы… И мечтания его ничем не кончатся. Не воплотятся». Блок ищет родины для своей романтической души и находит ее на Западе, в стране германской легенды, «где нежные тона, томные розы, воздушность, мечта о запредельном, искание невозможного». Он тоже мечтал о «das Ewig Weibliche» и женился на хорошенькой дочери привратника. Но у него есть и вторая родина - Россия. Из своей работы «Поэзия заговоров и заклинаний» автор вводит в статью легенду о муравьином царе, сидящем глубоко в земле на багряном камне. «И всего-то навсего видны только лесные тропы да развалившийся муравейник, да мужик с лопатой, - а золото поет». Это золото - сердце русского народа, творящее живую легенду. «Ничего не берут с собой. Ни денег, ни исторических воспоминаний эти русские люди… эти тихие болотные „светловзоры“. Статья заканчивается описанием Сибирской тайги, где в самом центре шаманства живут северные „светловзоры“. Автор вспоминает рассказы и стихи об этой таинственной стране своего друга Георгия Чулкова.
Так сталкиваются в душе Блока: романтизм германского Запада и „шаманская“, песенная Россия. Раздвоение и соединение противоположностей - источник его лирики.
Для „Старинного Театра“, устроенного известным театральным деятелем бароном Н. В. Дризеном, Блок переводит „Действо о Теофиле“ („Le miracle de Th"eophile“), трувера XII века Рютбефа. Это старинное предание о человеке, продавшем душу дьяволу и спасенном заступничеством Божией Матери, лежит в основе средневековых легенд о докторе Фаусте. Блок перевел „миракль“ простым народным языком, легким и забавным стихом (четырехстопный ямб со смежными мужскими рифмами). Ему удалось сохранить простодушие и очаровательную свежесть подлинника. „Действо о Теофиле“ было поставлено в декабре 1907 года в „Старинном Театре“, шло много раз и имело большой успех.
В том же году Блок был привлечен С. А. Венгеровым к редакционной работе по изданию первого тома сочинений Пушкина („Библиотека великих писателей под редакцией С. А. Венгерова. Пушкин. Том 1. Изд-во Брокгауз-Ефрона“). Ему принадлежат примечания к 28 лицейским стихотворениям Пушкина. Поэт проделал огромную работу по изучению рукописей, сравнению печатных редакций, выяснению источников и литературных влияний. Его комментарии достойны ученого пушкиниста: они отличаются точностью и глубоким проникновением в стихотворную манеру юного Пушкина.
Сборнику „Земля в снегу“ Блок предпослал введение: „Вместо предисловия“. Перед ним два эпиграфа; первый состоит из одной строки- „Зачем в наш стройный круг ты ворвалась, комета?“ и подписан инициалами Л. Б. Второй - стихотворение Аполлона Григорьева „Комета“, начинающееся стихами:
Недосозданная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий неистового спора,
Горя еще сама и на пути своем
Грозя иным звездам стремленьем и огнем.
Что нужды ей тогда до общего смущенья?
…В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.
Так, с помощью другого, близкого ему по духу поэта, пытался Блок оправдать и объяснить вторжение в свою жизнь „недосозданной“, горящей кометы, невзнузданной стихии, разрушающей гармонию его „стройного круга“. Роковая женщина - комета послана ему для „борьбы и испытанья“. Он верил, что из огня страстей он выйдет очищенным. Также из Григорьева взят эпиграф к первому из трех стихотворений „H. H. Волоховой“, являющемуся прологом к „Снежной маске“. Встреча Блока с Аполлоном Григорьевым в 1907 году была предопределена судьбой: она произошла на переломе его жизни. Доселе- спутником поэта, его „duca, signor e maestro“, был философ-мистик Вл. Соловьев. Теперь певец „Вечной Женственности“ уходит - и его место занимает беспутный, бурный, вдохновенный и пьяный Аполлон Григорьев. В нем- избыток клокочущей, стихийно-неистовой жизни, безудержье страстей, тоска народной песни, угарная цыганщина, бродяжничество и гибель. Блок принял в свою душу, прочел в его горькой участи знаки своей собственной судьбы. В стихах пропившего свой талант „народника-почвенника“ он нашел „звуки надтреснутой человеческой скрипки“, пронзившей его навсегда. Лирические темы „Земли в снегу“ сплетены с любимыми образами Григорьева. Бездомный бродяга в страшном и призрачном городе: Петербург, кабаки, рестораны, цыгане, гитара, „подруга семиструнная“, гибельная страсть и терпкое вино: влюбленная, в очах которой сияет „не звездный свет - кометы яркий свет“, которая влечет и жалит, „как змея“; а вдали - темная, кочевая „цыганская“ Русь в ее бескрайно-песенном разливе- в этом мире Блок узнал родину своей души. Он страстно впитал в себя цыганскую традицию русской поэзии, идущую от Пушкина и Баратынского через Фета и Полонского к Ап. Григорьеву, и в цепи его образов-символов: комета, Снежная Дева, Незнакомка-Фаина- появилось новое звено- Цыганка. Его пленило стихотворение Григорьева „Цыганская венгерка“, и он говорил Е. Ф. Книпович: „Цыганская венгерка“ мне так близка будто я ее сам написал». В облике цыганки- своевольной и дерзкой- явилась ему стихия русского народного скитальчества. Слияние этих двух образов произошло в драме «Песня судьбы», где русская деревенская девушка, раскольница с монашеским именем Фаина, уйдя в город, становится цыганкой.
Поэзия Григорьева - кипящая и сгорающая в неистовстве страстей- созвучна драматическим темам «Стихов о России» и «Розы и Креста». Мотив «радость-страданье» блоковского Гаэтана перекликается с привычными запевами Григорьева: «блаженство и страданье», «счастье-мученье», «наслажденье в муках».
Блок не «заимствовал» и не «подражал» Григорьеву: в забытом поэте-неудачнике 40-х годов он узнал самого себя, лирическое отражение своего лица.
В 1914и 1915 году, подготовляя к печати издание стихотворений Ап. Григорьева, Блок написал вступительную статью «Судьба Аполлона Григорьева». Идеолог «почвенности», сотрудник «Москвитянина» и друг Достоевского, театральный критик, переводчик и поэт, Григорьев в изображении Блока несколько «стилизован». Но именно эта субъективность восприятия, это включение Григорьева в личный мир поэта необыкновенно показательны. Вглядываясь в жизнь автора «Кометы», Блок говорит о судьбе лирического поэта вообще и о своей судьбе. «Чем сильнее лирический поэт, - пишет он, - тем полнее судьба его отражается в стихах…Детство и юность человека являют нам тот божественный план, по которому он создан; показывают, как был человек „задуман“. Судьба Григорьева повернулась не так, как могла бы повернуться, - это бывает часто; но о том, что задуман был Григорьев высоко, свидетельствует его жизнь, не очень обычная, а еще более, пожалуй, чем жизнь, - стихи…
…В судьбе Григорьева, сколь она ни „человечна“ (в дурном смысле слова), все-таки вздрагивают отсветы Мировой Души; душа Григорьева связана с „глубинами“… Человек, который через любовь свою слышал, хотя и смутно, далекий зов; который был действительно одолеваем бесами; который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и „замолкших“; тоска и восторги которого были связаны не с одною его маленькой пьяной человеческой душой - этот человек мог бы обладать иною властью…
…В поэзии Григорьева есть определенное утверждение связи с возлюбленной в вечности (увы! - в последний раз!), ощущение крайней натянутости мировых струн вследствие близости хаоса; переливание по жилам тех демонических сил, которые стерегут поэта и скоро на него кинутся… звуки надтреснутой человеческой скрипки»…
Лицо Григорьева все больше и больше приближается к лицу Блока; и вот - два лица сливаются. В чьей судьбе «отсвет Мировой Души»? Кто слышал «далекий зов»? Кто говорил о чудесах? Неужели Григорьев?
Цикл из 30 стихотворений «Снежная маска» выходит отдельной книжкой в апреле 1907 года (Издательство «Оры»); он включается впоследствии вместе с другими стихами этого года в сборник «Земля в снегу», появляющийся в печати в сентябре 1908 года (Издательство «Золотое руно»), В каноническом тексте «Собрания стихотворений» стихи 1907 года теряют заглавие «Земля в снегу» и распределяются в трех отделах: «Снежная маска», «Фаина» и «Вольные мысли». Предисловие, написанное поэтом для «Земли в снегу», не попало в «Собрание сочинений» и большинству читателей Блока осталось неизвестным. Между тем - это настоящая лирическая поэма, освещающая трагический смысл стихов о страсти и гибели. Поэт пытается объяснить «неумолимую логику» трех своих книг: «„Стихи о Прекрасной Даме“ - ранняя утренняя заря; „Нечаянная Радость“ - „первые жгучие и горестные, первые страницы книги бытия“; и вот - „Земля в снегу“. Плод горестных восторгов, чаша горького вина. Когда безумец потеряет дорогу, уж не вы ли укажете ему путь? Не принимаю - идите своими путями. Я знаю сам страны света, звуки сердца, лесные тропинки, глухие овраги, огни в избах моей родины, черные очи моей спутницы. Что из того, что Судьба, как цирковая наездница, вырвалась из тусклых мерцаний кулис и лихой скакун ее, ослепленный потоками света, ревом человеческих голосов, щелканием бичей, понесся вокруг арены, задевая копытами парапет? И вот Судьба - легкая наездница в прозрачной тунике, вся розовая, трепетно стыдливая на арене, нагло бесстыдная в страсти, хлестнула невзначай извилистым бичом жалкого клоуна, который ломается на глазах амфитеатра, - хлестнула прямо в белый блин лица. В душе клоуна- пожар смеха, отчаяния и страсти. Из-под красных треугольных бровей льется кровь, - оттого и не видно дороги. Идет, пошатываясь и балагуря, но не протягивайте рук и не спасайте. Далеко в потемках светит огромный факел влюбленной души. Если с ним заблужусь, то уж некому спасти, ибо сама Судьба превратила эту пышность, этот неизбывный восторг, эту ясную совесть, эту радостную тоску- в ничто. И я протяну к ней руки, и поклонюсь ей в ноги, - будь Она в образе цирковой наездницы в ажурных чулках с голубыми стрелками, с тонким и оскорбительным бичом, с глазами пленительной мещанки, сияющими лишь по привычке всегда сиять, до гроба сиять».
Так раскрывается образ Судьбы: Возлюбленная - наездница с бичом, мещанка с глазами, сияющими по привычке. А вот другое ее обличие - Цыганка.
«Так развертывается жизнь. Так, всему изумляясь, ни о чем не сожалея, страдной тропой проходит душа. Расступитесь. Вот здесь вы живете, вот в этих пыльных домиках качаете детей и трудитесь… Но издали идет к вам вольная, дерзкая, наглая цыганка с шафранным лицом, с бездонной страстью в черных очах. Медленно идет, гуляя, отдыхая от одной страстной ночи к другой. В черных волосах бренчат жалкие монеты, запылен красно-желтый платок. Вам должно встать и дать ей дорогу и тихо поклониться… Но не победит и Судьба. Ибо в конце пути, исполненного падений, противоречий, горестных восторгов и ненужной тоски, расстилается одна вечная и бескрайная равнина- изначальная родина, может быть, сама Россия… И снега, застилающие землю, - перед весной. Пока же снег слепит очи, и холод, сковывая душу, заграждает пути, издали доносится одинокая песня Коробейника: победно-грустный, призывный напев, разносимый вьюгой: Ой, полна, полна, коробушка!»
Лирикой образов и ритмов Блок чертит восходящую мелодическую линию своих стихов: Наездница - Цыганка - Россия - три образа судьбы поэта, три голоса, ведущих песню.
Стихи «Снежной маски» - звуковая запись движения. Смысл слов подчинен песенной стихии, широкой, стремительной, летящей. Это - человеческим голосом поет вьюга, свистит ветер, трубит метель. Мир взвился вихрем и понесся в захватывающем дыханье полете. Кружится снег, падают звезды, на вьюжном море тонут корабли, сердце скользит над бездной. Глагол «лететь» повторяется без конца:
И снежные брызги влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн…
Над бескрайними снегами
Возлетим!
За туманными морями
Чтоб лететь стрелой звенящей
В пропасть черных звезд!
О, настигай! О, догони!
Внимай! Внимай! Я - ветер встречный!
Мы - в лунном круге!
Мы - в бездне звездной!
Сердце его, как горная лавина, «катится в бездны». И все несется вместе с ними. В стихотворении «Настигнутый метелью»:
И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее,
Закатились навсегда.
В стихотворении «На зов метели»:
Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки,
Летели снега,
Звенели рога
Налетающей ночи.
Движение, полет, кружение усилены обилием повелительных интонаций.
Вейтесь, искристые нити,
Льдинки звездные, плывите,
Вьюги дольние, вздохните!
(«Крылья»)
«Пробудись!.. Покорись!.. Воротись!» «Прочь! Летите прочь!..» «Прочь лети, святая стая!» «Сверкни, последняя игла»… «Встань!.. Взмети!.. Убей меня!.. Сжигай меня!..» «Пронзай меня, крылатый взор». И, наконец:
Тайно сердце просит гибели.
Сердце легкое, скользи…
(«Обреченный»)
Кружится «воздушная карусель», длится «тихий танец» метели. И эти вьюги, срывающие ее звезды и полеты в пропасть, - только символы душевных событий; поэт догадывается:
И моя ли страсть и нежность
Хочет вьюгой изойти?
(«Смятение»)
Вся «вьюжная» тематика «Снежной маски» - последовательное раскрытие одной метафоры. Привычное-и от привычности стертое- выражение «вихрь страсти» развернуто в драматическую поэму о Снежной Деве, уводящей в смерть. Если вся романтическая поэзия есть поэзия метафоры, то лирика Блока поистине вершина этой поэзии.
Но окрыленные слова и звуки этих стихов только сопровождают их полет. Внутреннее движение их создается ритмом. До «Снежной маски» в поэзии Блока преобладал ямб; теперь он отходит на второй план: из 30 стихотворений сборника только шесть написаны ямбическим размером. Первое место занимает легкий и быстрый хорей, основной лад народной песни. Кажется, что в памяти поэта звенит «победно-грустный, призывный напев» некрасовского «коробейника», его разудалые, пляшущие хореи:
«Ой, полна, полна коробушка»…
Поразительно разнообразие хореических ритмов у Блока. Вот правильный четырехстопный хорей:
И твои мне светят очи
Наяву или во сне?
Даже в полдень, даже в дне
Разметались космы ночи…
(«Смятение»)
Но этот размер сравнительно редок; поэт предпочитает сложные сочетания двух-трех- и четырехстопных хореев. Эти ломающиеся, торопливые ритмы несут стихотворение «Тревога»:
Сердце, слышишь
Легкий шаг
За собой?
Сердце, видишь:
Кто-то подал знак,
Тайный знак рукой?
Ты ли? Ты ли?
Вьюги плыли,
Лунный серп застыл…
Чтоб лететь стрелой звенящей
В пропасть черных звезд!
В стихотворении «Прочь» - четырехстопные хореи чередуются с двухстопными:
И струит мое веселье
Два луча.
То горят и дремлют маки
Злых очей.
Резкие срывы смягчены в стихотворении «И опять снега», где четырехстопные строки завершаются одной трехстопной:
И вдали, вдали, вдали,
Между небом и землей
Веселится смерть.
Еще большая стремительность достигается соединением хорея с анапестом. В изумительном стихотворении «Ее песни» страстные, угрожающие слова звучат колдовскими заклинаниями:
Рукавом моих метелей
Серебром моих веселий
На воздушной карусели
Пряжей спутанной кудели
Легкой брагой снежных хмелей
Но настоящее чудо ритма - стихотворение «Настигнутый метелью»; первая часть его написана тоническим стихом, напряженным, неровным, дрожащим от волнения.
В небе вспыхнули темные очи
Так ясно!
И я позабыл приметы
Страны прекрасной -
В блеске твоем, комета!
В блеске твоем, среброснежная ночь!
И вдруг ритм ломается и врываются песенные хореи:
И неслись опустошающие
Непомерные года,
Словно сердце застывающее
Закатилось навсегда.
Эти гипердактилические рифмы (опустошающие-застывающие) - останавливают разгон стиха; кажется, что они повисают в пустоте.
Ритмика «Снежной маски» - узор необычайной сложности и утонченности; она еще ждет своего исследователя.
В цикле «Фаина» кружение вьюги замедляется; плясовые хореи сменяются тяжелыми ямбами, патетическими анапестами, равновесными амфибрахиями. Ритмическая ткань меняется так резко, что мы сразу чувствуем переход в другой мир. Полет «в сфере метелей» кончается спуском на землю. Тени, проносившиеся в звездной бездне, превращаются в человеческие образы: перед нами поэт и его возлюбленная:
И я провел безумный год
У шлейфа черного. За муки,
За дни терзаний и невзгод
Моих волос касались руки,
Смотрели темные глаза,
Дышала синяя гроза…
Его «нерадостная страсть» перешла за третью стражу: он лежит у ее ног в темной зале; в камине догорел огонь; она уходит; звенит вдали захлопнувшаяся дверь; он не выдерживает, бежит за ней; настигает ее в неверном свете переулка…
И, словно в бездну, в лоно ночи
Вступаем мы. Подъем наш крут…
И бред. И мрак. Сияют очи.
На плечи волосы текут.
……………….
Да! С нами ночь! И новой властью
Дневная ночь объемлет нас,
Чтобы мучительною страстью
День обессиленный погас…
Но она- «неверная», «коварная». Он встречает ее у входа, говорит ей несвязные речи, но она вырывается от него и «ускользающей птицей» летит в ненастье и мрак. Вся жизнь его - пытка страстью и отчаянием:
Перехожу от казни к казни
Широкой полосой огня.
Ты только невозможным дразнишь,
Немыслимым томишь меня.
Он идет за ней «робкой тенью», таится «рабом безумным и покорным». Он не боится ее оскорбительного презрения, ее бича:
Что быть бесстрастным? Что - крылатым?
Сто раз бичуй и укори,
Чтоб только быть на миг проклятым
С тобой - в огне ночной зари.
Рабство страсти, унижение побежденного. И, как Земфира в «Цыганах», Фаина поет ему насмешливо и нагло:
Эй, берегись! Я вся - змея!
Смотри: я миг была твоя,
И бросила тебя!
Ты мне постыл!
Иди же прочь!
С другим я буду эту ночь!
Ищи свою жену!
Ступай, она разгонит грусть,
Ласкает пусть, целует пусть,
Ступай - бичом хлестну!
Еще недавно он называл ее «звездой мечтаний нежных» и видел в ней прекрасный образ своей Музы; ему казалось: в ней воплотилось его видение Снежной Девы, таинственной Незнакомки. Так же пели ее шелка, так же узка была ее осыпанная кольцами рука; и те же дали открывались за ее вуалью («Вот явилась. Заслонила»). Но вот в шелесте ее шелков он услыхал шипение змеи и в «рыжем сумраке» глаз подглядел «змеиную неверность». Любовь его превратилась в страсть, прикоснувшись к скользкой и холодной чешуе; возлюбленная несла ему блаженство гибели:
Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши.
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.
Змея становится образом-символом этой испепеляющей страсти:
Надо мной ты в своем покрывале,
С исцеляющим жалом - змея.
Снежная Дева полюбила «непостижимый» город Петербург, закружилась метелью на русских просторах, изошла в тоске народной песни. Кто она? Чьи это песни? Чья это пляска?
…Каким это светом
Ты дразнишь и манишь?
В кружении этом
Когда ты устанешь?
Чьи песни? И звуки?
Чего я боюсь?
Щемящие звуки
И - вольная Русь?
И странным сияньем сияют черты…
Удалая пляска! О, песня! О, удаль! О, гибель! О, маска!..
Гармоника - ты?
Так подготовляется переход к слиянию образа «коварной, неверной возлюбленной» с буйной, хмельной, цыганской Россией. Одно из совершеннейших созданий Блока- неистовая, исступленная, разудалая плясовая «Гармоника».
Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!
Неверная, лукавая,
Коварная, - пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!
С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя люблю,
Что вся ты - ночь, и вся ты - тьма,
И вся ты - во хмелю…
Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..
Волшебство этого напева, «разносимого вьюгой», срывающегося, задыхающегося, уносящего, - не имеет себе равных.
Змея, шуршащая черными шелками, наездница с «тонким и оскорбительным бичом», «неверная, лукавая, коварная», исчезают в вихре, подхватившем вольную и дерзкую цыганку. И пляшет она, и визжит, и сводит с ума, - но какой простор вокруг, какие дали открываются за очерченным ею кругом:
Щемящие звуки
И вольная Русь.
И нет уже больше унижения раба «у шлейфа черного», нет тюрьмы безысходной страсти. В злой красоте и жестокой нежности открывается лицо родины; и про нее тоже поэт скажет:
И вся ты - ночь, и вся ты тьма,
И вся ты - во хмелю.
И ее тоже он «безумствуя любит».
Вознесение несчастной страсти к женщине на высоту мистической любви к родине- великая духовная победа Блока. Снежная Дева завлекала, уводила его в смерть.
Ведет - и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.
От искушения самоубийства поэт бежит в поля, на русские дороги, по которым бредут такие же, как он, бездомные и несчастные странники… Новым светом загорается сердце; тают снега и уходят метели: перед ним земля в блеске весны. В торжественных стихах он празднует свое возвращение к жизни:
О, весна без конца и без краю -
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю пустынные веси
И колодцы твоих городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И смотрю и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель - я знаю -
Все равно: принимаю тебя!
Стихотворение это было написано 24 октября 1907 года, это важная дата в жизни Блока - начало выхода из «лирического одиночества» на простор «народности» и «гражданственности». В цикл «Фаина» поэт включил впоследствии несколько стихотворений 1908 года; в них- эпилог романа со «Снежной Девой». Заключительные стихи - холодны и беспощадны:
…Теперь проходит предо мною
Твоя развенчанная тень…
С благоволеньем? Иль с укором?
Иль ненавидя, мстя, скорбя?
Иль хочешь быть мне приговором?
Не знаю: я забыл тебя.
В третий отдел «Вольные мысли» входят четыре небольшие поэмы, написанные спокойным, медлительным пятистопным ямбом без рифм. После лирических вихрей «Снежной маски» и «Фаины» - высокий лад эпического рассказа, неторопливые наблюдения, тихие мысли, длинные описания. Это - отдых после бури: из круга душевности выход в ясный, прохладный мир озер, сосен, дюн. Романтик учится у Пушкина простоте, мере, спокойной мудрости; он превращается в моряка северных морей, с загорелым и обветренным лицом:
Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней - все те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен - нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.
Это не придумано. Соль северных морей действительно была в крови Блока - древнее наследие его германских предков. Недаром В. Н. Княжнин подметил в наружности поэта сходство с «иностранцем-моряком, рожденным в Дюнкирхене или на Гельголанде».
Стать простым, здоровым человеком, принимать жизнь бездумно, радостно - вечная мечта романтика. Поэт проходит вдоль ипподрома: на его глазах убивается насмерть желтый жокей; он лежит, раскинув руки, с лицом, обращенным к небу: «Так хорошо и вольно умереть»…
В другой вечер он идет по набережной: рабочие возят с барок дрова; раздаются крики: «Упал! Упал!» Из воды вытаскивают утопленника… Как проста смерть… Поэт восклицает:
Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай…
…………….
Всегда смотреть в глаза людские,
И пить вино и женщин целовать…
……………….
И песни петь! И слушать в мире ветер!
(«О смерти»)
Мечтатель тоскует по «реализму». Ему, как черту Ивана Карамазова, хотелось бы воплотиться в «семипудовую купчиху». И жить, как все, без сложных чувств и поэтических иллюзий. В Шуваловском парке он видит на скамейке «тоскующую девушку»; уже звучит в его душе лирическая тема о печальной и гордой красавице. Но к «незнакомке» подходит затянутый в китель офицер «с вихляющимся задом» и протяжно ее чмокает. Жизнь учит иронии:
Я хохочу. Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил- незримый и высокий…
С улыбкой наблюдать смерть; хохотом встречать человеческую любовь; лечить страсть иронией… А придя домой, он находит на столе «письмо трагической актрисы»:
«Я вся усталая… Я вся больная.
Цветы меня не радуют. Пишите…
Простите и сожгите этот бред…»
И томные слова… И длинный почерк.
Усталый, как ее усталый шлейф…
То, что еще так недавно переживалось трагически, теперь стало смешным… Совсем не «Снежная Дева» - а попросту изломанная декадентская актриса («Над озером»).
Забыть черные петербургские ночи, стать матросом на Северном море, выйти на моторной лодке «в просторную ласкающую соль» и увидеть в голубом тумане красавицу - морскую яхту под всеми парусами с драгоценным камнем фонаря на тонкой мачте («В Северном море»). А вернувшись на берег, встретить на откосе женщину с глазами рыжими от солнца и песка.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом… Засмеялась.
………………
Я гнал ее далеко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя; вновь кричал и звал…
Потом, задыхаясь, он упал на песок и думал:
Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя…
(«В дюнах»)
«Вольные мысли» об упрощении и «натуральной жизни» не заражают своим мажорным тоном. Не верится в эту «натуральность».
В конце ноября Блок готовит для «Золотого руна» большой критический обзор - «Литературные итоги 1907 года». Он пишет матери о том, что, изучая современную литературу, сделал «очень решительные выводы»: «1) Переводная литература преобладает над оригинальной; 2) критика и комментаторство - над творчеством. Так будет еще лет 50-100, а потом явится большой писатель „из бездны народа“ и уничтожит самую память о всех нас. Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение десятка лет сменила кучу миросозерцании и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, который с XV века несет одну и ту же однообразную думу о Боге… Письмо Клюева окончательно открыло глаза. Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не сохранит „играющий случай“, разве эту большую красоту, которая теперь, может, брезжит перед нами в похмельи…»
Николай Клюев, «молодой крестьянин дальней северной губернии, начинающий поэт», вступил с Блоком в переписку. Расхваливал «райские образы» его стихов и одновременно обличал интеллигенцию. Блок отвечал ему, по его словам, «в духе кающегося дворянина». Клюев в высокомерном послании пророчествовал о появлении великого писателя из народа и говорил о непроходимой пропасти, отделяющей «дворянских» писателей от крестьянской Руси. Вот образец его «чисто народного» стиля: «Хочется встать высоко над миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю». Этот типичный полуинтеллигент, подражатель Некрасова и Кольцова, с наглой развязностью вещает от имени всего русского народа. И на Блока это письмо производит сильнейшее впечатление. И он кается перед этим «гой-еси молодцем».
Конечно, не кликушество Клюева определило собой восстание поэта против русской интеллигенции; оно было не причиной, а эмоциональным поводом его перехода на позиции народничества.
Во вступительной части обзора «Литературные итоги 1907 года» Блок обрушивается на интеллигенцию, называя ее «мировым недоразумением» и предсказывая ей скорую гибель; требует от писателей-эстетов, чтобы жизнь их была сплошным мученичеством, от лириков - чтобы они осознали свою ответственность перед рабочим и мужиком, от «представителей религиозно-философского сознания» - чтобы они прекратили свою кощунственную болтовню. Никогда еще поэт не говорил таким тоном - обличительным, негодующим, озлобленным. В романтике пробуждается нигилист, который всю эстетическую и духовную культуру русского Ренессанса XX века готов признать «дрянным фактом интеллигентской жизни». С особенной ненавистью говорит он о религиозно-философских собраниях: «Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и Антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, - вся это невообразимая и безобразная каша, идиотское мелькание слов… И все это становится модным, доступным для приват-доцентских жен и благотворительных дам. А на улице - ветер, проститутки мерзнут, людей вешают, а в стране - реакция, а в России жить трудно, холодно, мерзко».
«ОТЗВУК ЗАБЫТОГО ГИМНА»
МОТИВЫ СКАЗКИ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
В ЦИКЛЕ А.БЛОКА «СНЕЖНАЯ МАСКА»
Символисты в своем творчестве обращались к самым значительным произведениям мировой литературы. Мы знаем, насколько популярны были произведения Г-Х. Андерсена в начале ХХ в. В своих дневниках А.Блок отмечает, что он в метельные петербургские зимы начала века перечитывал не раз знаменитую «Снежную королеву». А после свидания и знакомства с актрисой Натальей Николаевной Волоховой, в которую поэт был влюблен в снежную зиму 1907 года, появился цикл «Снежная маска» к ней обращенный. Мы сначала невольно замираем, не в силах расшифровать образы и мотивы этих таинственных стихотворений. Но если вчитаться в стихотворения первого цикла, который называется «Снега», то многие строки буквально напоминают нам что-то знакомое - «отзвук забытого гимна» не только в Кармен, но и здесь вырисовывается ясно.
А.Блок в предисловии к сборнику «Нечаянная радость» и сам отметил, говоря о стихах того времени: « Там, в магическом вихре и свете, страшные и прекрасные видения жизни: ночи - снежные королевы - влачат свои шлейфы в брызгах звезд».
А за несколько дней до написания цикла, в записной книжке А.Блок записал: « А на ночь в постели опять уютно буду читать Андерсена». И естественно, что мотивы сказки отразятся и в его творчества. Но поэт не просто пересказывает нам сказку, на ее основе он создает новый, совершенно особенный миф.
Отождествляя любимую с героиней сказки, он запишет в стихотворении «Я в дольний мир вошла»…
И в венке метелей снежных
Я плыву, скользя,
В серебре метелей кроясь..
А в сказке Андерсена читаем: «Снежинки окружали ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится на черном облаке»
Такова и героиня Блока, в «венце метелей снежных».
Первое стихотворение книги написано через три дня после записи в дневнике об Андерсене, называется «Снежное вино». И здесь он вспоминает:
Забытый сон о поцелуях,
О снежных вьюгах вкруг тебя.
Героиня не только окружена снежными вьюгами, но и мотив поцелуев играет в сказке важнейшую роль.
«Поцелуй ее был холоднее льда, он пронзил его насквозь и дошел до самого сердца, но оно уже и без того наполовину было ледяным. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл Герду, бабушку и всех домашних.
- Больше не буду тебя целовать, - сказала она.- Не то зацелую до смерти».
У поцелуя здесь особенная роль. Это первый шаг к забвению и уходу от привычного мира. Для живого человека они играют роковую роль. И дважды он возникает в первом стихотворении:
Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице
В стихотворении «Снежная вязь» герой восклицает:
Я не открою тебе дверей, нет, никогда.
И если обратиться к сказке, то станет понятно, почему он так думает и пишет.
Кай в начале наивно полагал, что со Снежной королевой можно бороться, если закрыть двери. Она не сможет войти. Но мы знаем, что она вошла через разбитое окно. И она забирает героя и на этот раз:
Снежные брызги, влача за собой,
Мы летим в миллионы бездн.
Она забирает героя, и они уносятся в ее мир, в чертоги около самого северного полюса. И также знаком нам «блистательный бег саней», не только в реальности уносился поэт со своей любимой в метель, но и в сказке, когда королева появляется во второй раз.
«Большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительная женщина». Она пришла за ним, и они улетают в неизвестность.
В стихотворении «Второе крещение» звучит еще один мотив из сказки - забвение и предательство. Мы знаем, что она требовала от Кая, чтобы он забыл свой мир и близких.
И, наконец, образ героини окончательно угадывается в стихотворении «Открыли дверь мою метели», его уже невозможно перепутать с другим:
И драгоценный камень вьюги
Сверкает льдиной на челе.
Героиня окончательно обозначена, и для создания такого мифа были свои причины. Поэт убеждался в том, что актриса не отвечает на его чувства взаимностью, и вместо банальной истории о неразделенной любви, он пишет великолепный миф о снежной королеве, которая заморозила сердце юного принца, и он на какой-то срок остается в ее власти.
Герой ступает в новый мир, и плата за любовь - сердце, обращенное в лед, отречение от старого мира, новое крещение для служения новой богине. Так как еще недавно он служил своей Прекрасной Даме (первое крещение), теперь он готов служить прекрасной, но холодной героине из замечательной сказки. Но там Герда спасает героя от чар снежной королевы. На этот раз он признается нам в том, что спастись ему не удается. Она заклинает его:
Ты сказала: глядись, глядись,
Пока не забудешь, того, что любишь.
И эта строчка имеет свою параллель в сказке:
«Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних».
Для него наступает новая жизнь. Но ведь именно так каждый раз отдавался новой страсти и сам поэт, и все окружающие были уверенны в гибели его.
Стихотворение «Крылья» - это монолог заклятие, которое произносит героиня над своей жертвой. Сначала она призывает к смирению: отпусти меч, укроти сердце, иначе задушу, оглушу, закружу.
Она уводит его все дальше, власть ее над героем все сильнее, она удерживает его и не дает возможности вырваться из своего плена, из ледяных чертогов.
Королева обещает ему Вечность, именно это слово из льдинок должен сложить Кай. Но вечность в данном случае синоним слова смерть.
Тобой обманут, о вечность.
Герой Блока исполняет ее волю, для него нет спасения, и сердце его обращено в лед, но ничего не бывает Вечным, и от страсти его не остается следа. Он убеждается в том, как быстро она проходит. И мы на страницах поэтического сборника читаем повествование о том, как жестокая и ледяная героиня вырвала из реальности и унесла в кружение вьюги героя.
Но в тот момент, когда читатели уверенны в том, что он погиб окончательно, он вырывается из дикого плена, предпринимая невероятные усилия, и является к нам в новом, совсем ином качестве.
Как только утихли бури и метели, оттаяло и его ледяное сердце, а могущественная героиня становится сначала только Снежной девой, а потом и развенчанной тенью, в то время как он сам обретает новые силы, и власть над творчеством и над миром. Словно птица Феникс, сгорая в страсти дотла, он будет являться к нам помолодевшим и возрожденным. Еще не раз удивит он нас своими неповторимыми циклами.
И вспоминая о пережитом когда-то, он напишет:
Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.
И секрет Блока и состоял в том, что он всегда находил в себе силы подняться и взлететь. Он умел воскресать. И от могущества героини ничего не оставалось больше. И в этом признается он в весеннем своем стихотворении.
Я и сам ведь не такой не прежний,
Недоступный, гордый, чистый злой.
А к бывшей Снежной королеве, которая, казалось погубила его, он обращает совсем иные слова:
Иль хочешь стать мне приговором?-
Не знаю: я забыл тебя.
АЛЕКСАНДР БЛОК «СНЕЖНАЯ ДЕВА»
АНАЛИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Он по праву считается первым, самым ярким и талантливым поэтом серебряного века. Поразительны женские образы, созданные в лирике А.Блока: Прекрасная Дама (создание из грез, видений). Незнакомка - туманная и таинственная, то ли женщина, то ли видение, Снежная Маска – вечно изменчивая и непостоянная. За этим образом стояла реальная женщина – актриса Наталья Николаевна Волохова.
Словно молитва и заклинание, звучали обращенные к ней стихи. Так в метельную зиму был создан цикл «Снежная маска». Но после этого, самого зашифрованного в его творчестве цикла, он написал стихотворение «Снежная дева», так же к ней обращенное. Оно оказалось еще более загадочным и заводило в тупик многих исследователей и не поддавалось расшифровке и анализу.
Сам поэт никогда не комментировал своих стихов, не отвечал на вопросы, но в самом стихотворении, если внимательнее вчитаться - раскрывается тайна и дается ключ к циклу «Снежная маска».
Прежде всего, в глаза бросается знаменитый мотив Снежной королевы – одной из лучших сказок Андерсена, преображенной в его сознании. Вот и название цикла созвучно ей, только несколько иначе звучит. Но не один только образ скрывается за знакомой маской. И от знаменитой сказки в стихотворении «Снежная дева», остаются только отдельные штрихи. Изменилась и героиня, и ситуация.
Мы знаем, из дневников и дат написания стихотворений, что цикл «Снежная маска» появился, когда поэт был влюблен, и отвергнут знаменитой актрисой. Уязвленный и отвергнутый, он создал новый миф о холодной деве, заморозившей его сердце, отсюда и « поцелуи на запрокинутом лице».
Но прошло время, она полюбила его. И нужен был иной миф. И вроде бы в стихотворении перед нами все та же героиня в новой ситуации, это подчеркивает прилагательное «снежная» – главный ее признак. Но возможно с иронией она названа Девой, а не королевой, повелительницей. А так как свою лирику поэт всегда считал дневником, то это его очередная страница. И читатели находили сходство с той реальностью, в которой оставался и поэт и героиня. Но многое изменилось. Появилась «дикая даль» и иные времена, а еще «сфинкс», «родной Египет». Даже для неопытного читателя понятно, что речь здесь пойдет о египетской царице Клеопатре. И есть еще один знак, к ней обращенный, повторяющий знаменитый миф «ночная дочь иных времен».
Если вспомнить, что Петербург считали в те времена третьим Римом, то перед нами картина ее въезда в Рим представлена им в полной красе. Именно поэтому «ночного Сфинкса пред исполинскою Невой она встречает « легким вскриком» - она его узнала, и обрадовалась тому родному, что увидела в чужом мире. Снег – невиданное явление для царицы царей. Но она так же холодна и жестока, и сама может убить и заморозить. И картина, которую он видит и рисует, вроде бы прекрасна
Бывало, вьюга ей осыплет,
Звездами плечи, грудь и стан.
Если бы она не была южной девой, то картина прекрасна, но мы догадываемся, что она замерзает в чужом мире, а он одолел в душе страсть и не погиб, а уцелел. И он уже не бедная жертва неразделенной любви, а царь царей, и они поменялись ролями – это он готов ее заморозить в своем мире, в который она приехала к нему, влюбленная, порвав со своим собственным
И в реальности Н.Н.Волохова устремилась в то время за ним, искала, ревновала, и сполна заплатила за свою нелюбовь. И в стихах, которые оставались в веках, он был беспощаден к ней. Себя он видит теперь Цезарем, и называет Петербург «Город мой», «царство».Но здесь есть и странный для египетской царицы образ
В окнах тихие лампады,
Слились с мечтой ее души.
Перед нами еще и христианка, какой ни Снежная королева, ни Клеопатра никогда не была. Невозможно представить, что она могла принять новую веру. А в новом цикле, странно изменившаяся героиня получит иное имя «Фаина». И невозможное возможно, по его собственному убеждению. Она все время меняет лица и снимает маски. И влюбившись, и устремившись за ним, она остается загадочной и непостижимой. Хотя он даже не пытается скрывать своего разочарования.
В каждом из его любовных циклов всегда очень сильно противоборство мужчины и женщины. Он ее убивает окончательно, хотя еще недавно сам готов был умереть, забыв обо всем на свете.
Он с усмешкой презрения встречает ту, которая слепо верит в то, что она еще любима и желанна, хотя от его прежних чувств больше не осталось следа.
Но кроме Сфинкса и от реального Петербурга почти ничего не осталось. И город кажется только призраком, на фоне которого разворачивается новое действие драмы.
Отвергая любовь, он становится вождем «враждебной рати». Это стихотворение во многом созвучно «Варварам» Н.Гумилева, где пред обнаженной, готовой отдаться завоевателям царицей, появляется вождь викингов:
Но хмурый начальник сдержал опьяненную лошадь.
С надменной усмешкой войска поскакали на север.
И А.Блоку миф о варваре, отвергшем доступную царицу, был прекрасно знаком. И он вспомнил о нем, когда писал свое стихотворение.
Он всегда ощущал себя победителем, поднимаясь над собственными слабостями. И здесь, когда мы ждем от него нового мифа, он не делает этого, а только пересоздает старый, чаще всего, соединяя воедино сразу несколько мифов, и остается только догадываться о том, из каких сюжетов сплетено это удивительное кружево.
Стихотворение «Снежная Дева» написано 17 октября 1907 года, а через два месяца 17 октября 1907 года появилась еще одна его версия,– стихотворение так и называлось «Клеопатра». Он видел восковую фигуру царицы
Толпою пьяной и нахальной
Спешим. В гробу царица ждет
- он окончательно ее хоронит, теперь она восковая фигура в том же Петербурге,
и он слышит «отзвук забытого гимна» и ощущает вину перед умершей царицей.
Я сам позорный и продажный,
С кругами синими у глаз
Пришел взглянуть на профиль важный
Но если вспомнить, что совсем недавно он сам подарил ей свой город « как царство» и убил ее «заморозил», то раскаяние не кажется таким уж странным. Она же судит его и себя беспощадно:
Тогда я исторгала грозы,
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта слезы,
У пьяной проститутки смех.
Перед нами уже не царь, а только пьяный поэт, рыдающий над своей любовью - таков печальный итог восхитительного романа, в котором он живет. Мы знаем страшную тайну, – здесь больше нет Цезаря и Клеопатры, а есть восковая кукла и пьяный поэт. Герои на наших глазах становятся только призраками. И таким же туманным призраком, заполненными тайнами и двойниками всего был его город, который он недавно подарил ей.
А что же стало с реальной женщиной, скрывавшейся за Снежной маской?
Мы встречаемся с ней в еще одном стихотворении: «Ушла. Но гиацинты ждали». Если заглянуть в книгу символов и вспомнить язык цветов (его прекрасно знали в те времена), то гиацинт белый означал « мое сердце влечет меня к тебе, бедная мечтательница».
Она уходит от него ночью, по свидетельству самого поэта, он рассказывает о свидании с любовницей. И нет образа женщины, есть только «легкие складки женской шали». Осталась страсть, когда от восторга и влюбленности больше не оставалось и следа, она перестала быть героиней его грез. Но о таких переменах она еще даже не догадывается. Он требует от нее жертвы и гибели (как в ночах Клеопатры). И она обречена, а еще через год, в 1908 г он окончательно и безжалостно проститься с призраком:
Иль хочешь стать мне приговором?
Не знаю, я забыл тебя.
Так завершился роман, возникший в снежную зиму – самый таинственный и прекрасный из всех его романов. А стихотворение «Снежная Дева» только одно звено в цепи, именуемой любовной лирикой Александра Блока. Если мы правильно сцепили эти звенья, то вырисовывается определенный узор, состоящий из тайных знаков и образов. Но даже после всех наших анализов остается тайна. Она не исчезает. И в этом особая прелесть его лирики: мы то приближаемся к разгадке, то снова от нее удаляемся.
Александр Блок впитал и переплавил опыт всей предшествующей литературы. Он – поэт пути. Сам Блок делил свое творчество на 3 этапа: 1898-1904гг, 1904-1908гг, 1908-1921гг. Ко второму периоду следует отнести стихотворения «Последний день», «Обман», «Молитвы», «Вечность бросила в город...», «Город в красные пределы...», «Поднимались из тьмы погребов...», «Ты в поля отошла безвозвратно...», «Невидимка», «Девушка пела в церковном хоре...», «Незнакомка», «Там дамы щеголяют модами…», «Там в ночной завывающей стуже…», «Шлейф, забрызганный звездами…», «Твое лицо бледней, чем было…», цикл «Снежная маска» и др.
В книгу вторую, которая отражает период антитезы в творчестве Блока по отношению к мироощущению времен «Стихов о Прекрасной даме», он поместил одно из самых противоречивых своих произведений - цикл «Снежная маска». В нем лирический герой, пережив утрату идеальной любви, с высоких небес духовного спускается в хаос материального, пытаясь переосмыслить окружающий мир.
На первый взгляд, «Снежная маска» - поэтический памятник одной из Блоковских влюбленностей, одного из воплощений Вечного Женственного – образа-константы в его творчестве. Но это лишь внешняя, житейская сторона цикла. Сложность и неоднозначность этого цикла определяет его «серединное» положение в литературном наследии Блока, на которое он сам и дал указание. Обращает на себя внимание то, на сколько разных оценок удостоилась «Снежная маска».
В 1907 году он начал «нисхождение по лестнице подмен» (что не совсем кореллируется с его мастерством как поэта, потому что Блок вовсе не исписался после «Стихов о Прекрасной Даме»), а цикл «Снежная маска» является «документом нравственного падения поэта». В 1907 году он закрутил роман с реальной женщиной, но на более высоком уровне – это был роман с теми вихревыми силами, которые в конце концов лишат его воздуха и заставят «всем сердцем слушать музыку революции».
Н.Н. Волохова, к счастью для нее, была сильнее и Блока она не любила. Как, впрочем, и он ее. В отместку героиня «Снежной маски» наделена атрибутами темных сил и зла, ни тепла, ни нежности, ни трепета, только мгла, чернота, маки злых очей, огонь и лед. «Вихрей северная дочь» - разве это Н.Н. Волохова? Разве это она говорит: «Рукавом моих метелей задушу»? На первый взгляд, образ, созданный Блоком, это маска реальной женщины, с которой он был близок. Присмотревшись пристальней, становится ясно, что реальная женщина Наталья Николаевна Волохова использована поэтом в качестве маски для другой героини, чье лицо скрыто. Но по некоторым приметам мы все же можем ее опознать.
Проанализировав символику «Снежной маски», очевидно, что сврехреальная ее героиня является существом неприкрыто инферальным. Белая стихия зимы, захватывающая лирического героя, явно перекликается с апокалиптической Белизной Невесты из 1-го тома. Как известно, изначально белый цвет являлся цветом траура и скорби.
Девушка-невеста считалась умершей для своего рода, поэтому славяне одевали невест в наряд белого цвета. Кроме того, ее лицо было закрыто (как у мертвой) плотным платком (сейчас – фата). Таким образом, девушка умирает в своей семье, а жених переводит «мертвую» в свою семью, где она вновь возрождается. В свою очередь, в погребальном обряде для неженатых/незамужних присутствовали фрагменты свадебной реальности. Такая взаимосвязь объясняется тем, что и свадьба, и похороны являлись ключевыми вехами человеческого существования, символизировавшими переход из одного состояния в другое.
Кроме того, мотивы смерти очевидны в последнем стихотворении цикла «Обреченный»: буквально - в строчках «И холодными призорами / Белой смерти предала» и метафорично - вначале стиха: «Вот меня из жизни вывели/ снежным серебром стези». Если вспомнить, что в «Снежной маске» неоднократно упоминаются сани, то можно утверждать, что эти стези – след от саней. Почему же они вывели из жизни героя? Опять же ответ дает фольклор: древнее славяне сжигали умерших в ладье или на санях, а также зимой везли на санях труп, готовый к погребению. Отсюда возникла идиома, использованная, например, в «Поучении» Владимира Мономаха, - сидя на санях, то есть перед смертью. Так же и в последний день Масленицы чучело, олицетворявшее зиму, хоронили или сжигали на санях в сопровождении толпы ряженых. В контексте мифопоэтического анализа употребление Блоком в одной связке лексем «снег», «лед» и «огонь» отражает мотив сожжения зимой. Вообще снеговые заносы в «Снежной маске» также наводят на мысль о их связи с потусторонним миром, если вспомнить, что вовремя масленичных празднеств обязательным пунктом программы был штурм и разбивание снежного городка, так как, по народным поверьям, в снеговых столбах и сугробах веселится нечистая сила (ср. в стихотворении Блока «Русь»: «И ведьмы тешатся с чертями / В дорожных снеговых столбах»).
Наконец, в последней строфе стихотворения «Второе крещение» раскрылась подлинная сущность героини цикла: «Весны не будет, и не надо: / Крещеньем третьим будет – Смерть». С одной стороны, цикл «Снежная маска» по сути повторяет сюжетную линию «Стихов о Прекрасной Даме», где главный женский образ наделен мистическими чертами, только героиня «Снежной маски» представлена уже как откровенно демонический образ. Оппозиция первого и второго крещения имеет не только богоборческий и автобиографически-интимный смысл (противопоставление «первой» и «новой» любви), но и устанавливает символические отношение «Снежной маски" к лирике Блока 1-го тома.С другой стороны, ситуация второго, «снежного крещения» (то есть, по сути, антикрещения), в которую с головой бросается лирический герой цикла, его служение темным силам, стоящими за воображаемой им Вечной Женственностью, оказывается лишь предвестием процесса куда более близкого к жизни и потому более зловещего - очарования Александра Блока народной стихией, за которой многим виделась откровенно демоническая маска.
Наверное, лучше всех исследователей творчества Блока суть «Снежной маски» уловил художник-иллюстратор Лев Бакст, который оформлял издание этого цикла 1907 года. На его рисунке – усыпанное ледяными звездами ночное небо, деревья в снегу и зловещая фигура женщины в развевающемся черном платье. Она почти сливается с мраком, она и есть мрак, на ее лице – маска, за собой женщина увлекает в ночь мужчину во фраке – Александра Блока.
В 1907 и 1908 гг. выходят подряд два новых сборника
Блока - «Снежная маска» и «Земля в снегу». Первый из
них представляет собой самостоятельный и законченный
цикл стихотворений, навеянных «бурной, восторженной,
томительной и безответной», как пишет Д. Е. Максимов,12
любовью поэта к актрисе театра В. Ф. Комиссаржевской Наталье Николаевне Волоховой. Блок всегда придавал
циклу «Снежная маска» большое значение. Он включил
его в состав следующего сборника «Земля в снегу» как
последний, заключительный раздел, а в 1920 г. в «Записке
о „Двенадцати"» сказал о том, что именно в январе
1907 г., в период увлечения Волоховой, он впервые слепо
«отдался стихии». Любовная игра захватила поэта (хотя
не поколебала его чувств к Любови Дмитриевне). Однако
она вывела Блока на новый путь, по-новому осветила для
него окружающий мир, который открылся ему именно со
стороны своей стихийности, неуспокоенности, текучести.
Не случайно любовь к Волоховой - «зимняя» любовь, она
вся «пронизана снегом и метелями», и само заглавие цикла
«Снежная маска» содержит явный символический
подтекст. Поэтому Блок и включил цикл в состав сборника
«Земля в снегу»: здесь перелом, наметившийся
в «Нечаянной Радости», закрепляется и утверждается
как нечто совершившееся. Но показательно, что в каких-
то важных своих жизненно-эстетических принципах
Блок остается верен себе. Как ранее в Любови Дмитриевне,
Блок хочет видеть в Н. II. Волоховой некое «явление
», обобщенный символический образ, воплощение
скрытой стихийности- блистательную «комету», нарушающую
йривычное круговращение «светил». По свидетельству
близко знавшей и Блока и Волохову Н. П. Веригиной,
Волохова протестовала (как прежде протестовала
Любовь Дмитриевна), но «Блок был неумолим. Он требовал,
чтобы Волохова приняла и уважала свою миссию,
как он - свою миссию поэта. Но Наталия Николаевна не
захотела отказаться от „горестной земли" - и случилось
так, что он в конце концов отошел».13 Тот своеобразный
«разлад» поэзии и действительности, который наметился
в ранний период, продолжает сохранять для Блока свою
силу, хотя самые понятия «поэзии» и «действительности»
наполняются иным содержанием. Искусство есть преображение
действительности - этому тезису Блок остается
верен, но процесс преображения лишается уже отвлеченности
и былой таинственности.
Блок расстается с прошлым,
он пишет об этом с нескрываемым сожалением, но понимает,
что тут проявляет себя жесткая и жестокая необходимость:
И над мигом свивая покровы,
Вся окутана звездами вьюг,
Уплываешь ты в сумрак снеговый,
Мой от века загаданный друг.
(«Там, в ночной
завывающей с т у ж е...»)
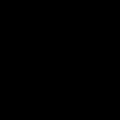 Ударение в английском языке
Ударение в английском языке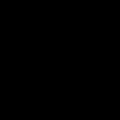 10 слов с ударением на 1 слог
10 слов с ударением на 1 слог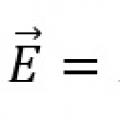 Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи
Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи