А. Белый Начало века- Полный текст -извлечение. Книга: Андрей Белый «Начало века
Я хочу, чтобы меня поняли: «чудак» в условиях современности - отрицательный тип; «чудак» в условиях описываемой эпохи - инвалид, заслуживающий уважительного внимания.
Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов, Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д. Не было одного имени - Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя Маркса - нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу, Локка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии: читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и т. д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и - переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог , глубоко страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.
Так что - первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве, Туган-Барановский, Маркс; казались смешными возражения «какого-то» Маркса; возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по брошюрам и главным образом по полемике с ними «Вопросов философии и психологии»; а то - Маркс: «какой-то» Маркс!
Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня; придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал я о Ленине.
Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о Ленине) не хотели знать.
Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал: Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов (Дидро, Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера, Молешотта, стыжусь, - Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал потом). Что же я читал?
Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Риля, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера, Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, «Опыты» Бэкона (Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий, истории культур, журнал «Вопросы философии и психологии»; я прочел множество книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, - книг, из которых большинство читать и не следовало. И кроме того: я прочел множество эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием собственных юношеских «эстетик» (под влиянием эстетики Шопенгауэра) .
Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода; борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть угнетавшую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою «наукоподобную» теорию за научную (на ее «научность» ловились и физики); я шел «преодолевать» Канта изучением методологий Риля, Риккерта, Когена и Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта; я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее построить на «анти» - вместо того, чтобы начать с формулировки основных собственных тезисов.
Из «анти» не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и выходило: «символ» - ни то ни это, ни пятое ни десятое. Что он - я не сформулировал; сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать исследование.
Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных позиций не видели б перенесения их в «сегодня»; рисуемое мной - характеристика далекого прошлого; и менее всего она есть желание выглядеть победителем.
Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя; без них читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы, - пусть бурлили путано, пусть напускали туман, но мы - бурлили; бурлил особенно я; и люди и факты воспринимались в дымке идей; без нее мемуары мои - не мемуары; ссоры, дружбы определяла она; и потому не могу без искажения прошлого ограничиться зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов; мемуары мои не сборник анекдотов; я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи 1901–1905 годов в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения; поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления первых встреч; многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их показываю на отрезке времени; переменились - Эллис, В. Иванов, Мережковские, Брюсов. Мережковский, еще в 1912 году кричавший, что царское правительство надо морить, как тараканов… бомбами, где-то за рубежом кричит - о другом; коммунист в последней жизненной пятилетке, Брюсов в описанную мною эпоху - «дикий» индивидуалист, с наслаждением эпатирующий и буржуа и нас; конечно, он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности; я полагаю, что молодой, «дикий» Брюсов, писавший о «бледных ногах» , Брюсов, которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким, каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший «эмигрантом» при царском режиме, - теперешний ли Бальмонт-«эмигрант»?
Я рисую людей такими, какими они мне, да и себе, казались более чем четверть века назад; было б бессмысленно подсочинять в стиле конечного их развития начало пути их; это значит: сочинять факты, которые не имели места, молчать о фактах, имевших место.
В основу этих воспоминаний кладу я сырье: факты, факты и факты; они проверяемы; как мне утаить, например, что Брюсов ценил мои юношеские литературные опыты, когда рецензии его обо мне, его записи в «Дневниках» - подтверждают это? Как мне утаить факт его вызова меня на дуэль, когда письмо с вызовом - достояние одного из архивов; оно всплывет - не сегодня, так завтра; стало быть, - встанет вопрос, каковы причины нелепицы; серьезная умница, Брюсов, вызвал на дуэль, когда предлог - пустяк; я вынужден был осторожно, общо вскрыть подлинные причины пробежавшей между нами черной кошки. В зарисовке натянутых отношений между мной и Брюсовым эпохи 1904–1905 годов я все же должен показать, что мы впоследствии ликвидировали испорченные отношения. Вот почему, рисуя Брюсова не таким, каким он стал, а таким, каким был, и подавая его сквозь призму юношеских восприятий, я поневоле должен оговорить, что этот стиль отношений переменился в будущем; было бы несправедливо заканчивать толстый том ферматой моего тогдашнего отношения к Брюсову; тогдашнее отношение едва ли справедливо; Брюсов вызывал меня на дуэль в феврале - марте 1905 года; воспоминания обрываются на весне 1905 года же. Не будучи уверен, что мне удастся написать второй и третий том «Начала века», я вынужден к показу отношений 1905 года написать прибавочный хвостик, резюмирующий итог отношений; ибо я храню уважение к этой замечательной фигуре начала века; победил меня Брюсов поэт и «учитель». Наоборот: рисуя дружбу свою с Мережковскими, я не могу победить в себе того яркого протеста против недобрых себялюбцев, который отложился в итоге нашего шестнадцатилетнего знакомства. При характеристике Вячеслава Иванова 1904 года я должен подать его сквозь призму позднейших наслоений вражды и дружбы; иначе вырос бы не Вячеслав Иванов, - карикатура на него; он явился передо мною в ту пору, когда личные переживания исказили мне восприятие его сложного облика; попросту в 1904 году мне было «не до него»; отсюда: краткая история наших позднейших отношений необходима при характеристике первой встречи; если был бы я уверен, что напишу и последующие воспоминательные тома, я бы не торопился с этой характеристикой; не было бы заскоков и в будущее; заскоки - тогда, когда показанные личности на малом протяжении лет восприняты превратно, несправедливо, когда выявления их передо мной не характеристичны, мелки, а они заслуживают внимания.
4244.99kb.
Андрей Белый
Начало века
Воспоминания в 3-х книгах
Книга 2
СОДЕРЖАНИЕГлава первая. "Аргонавты"
Год зорь
Кружок Владимировых
Весна
Студент Кобылинский
Эллис
Гончарова и Батюшков
Рыцарь Бедный
Мишенька Эртель
Великий лгун
Эмилий Метнер
Рачинский
Старый Арбат
Аргонавтизм
"Симфония"
В тенетах света
Лев Тихомиров
Валерий Брюсов
Знакомство с Брюсовым
Чудак, педагог, делец
Мережковский и Брюсов
Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус.
Профессора, декаденты
Я полонен
Хмурые люди
Из тени в тень
Смерть
Лавры и тени
"Литературно-художественный кружок"
Бальмонт
Волошин и Кречетов
Декаденты
Перед экзаменом
Глава третья. Разнобой
Экзамены
Смерть отца
Леонид Семенов
"Золото в лазури"
Переписка с Блоком
Кинематограф
"Аяксы"
"Орфей", изводящий из ада
Знакомство
За самоварчиком
"Аргонавты" и Блок
Ахинея
Брат
Старый друг
Сплошной "феоретик"
Вячеслав Иванов
Башенный житель
На перевальной черте
Шахматове
Тихая жизнь
Лапан и Пампан
Глава четвертая. Музей паноптикум
Снова студенчество
Тройка друзей
Павел Иванович Астров
Александр Добролюбов
Л. Н. Андреев
"Весы-Скорпион"
Д"Альгейм
Безумец
Муть
Исторический день
Мережковские
Карташев, Философов
Пирожков или Блок
В.В. Розанов
Федор Кузьмич Сологуб
Религиозные философы
Усмиренный
Москва
Отношения с Брюсовым
Эти мемуары взывают к ряду оговорок, чтобы автор был правильно понят.
За истекшее тридцатилетие мы пережили глубокий сдвиг; такого не знала
история предшествующих столетий; современная молодежь развивается в
условиях, ничем не напоминающих условия, в которых воспитывался я и мои
сверстники; воспитание, образование, круг чтения, обстание, психология,
общественность, - все иное; мы не читали того, что читают теперь;
современной молодежи не нужно обременять себя тем, чем мы переобременяли
себя; даже поступки, кажущиеся дикими и предосудительными в наши дни,
котировались подчас как подвиг в мое время; и потому-то нельзя переводить
воспоминаний о далеком прошлом по прямому проводу на язык нашего времени;
именно в языке, в экспозиции, в характеристике роя лиц, мелькающих со
страниц этой книги, может произойти стык с современностью; я на него иду;
и - сознательно: моя задача не в том, чтоб написать книгу итогов, где каждое
явление названо своим именем, любой поступок оценен и учтен на весах
современности; то, что я показываю, нам и не близко, и не современно; но -
характеристично, симптоматично для первых годов начала века; я беру себя,
свое обстание, друзей, врагов так, как они выглядели молодому человеку с
неустановившимися критериями, выбивавшемуся вместе с друзьями из топившей
нас рутины.
Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не
чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается; эти коллективы
идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего
социалистического государства.
Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я,
развивалась наперекор всему обстанию; прежде чем даже встретиться, чтобы
соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как
умел; без поддержки государства, общества, наконец, семьи; в первых встречах
даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью;
не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то,
что есть в тебе законный жест молодости, - как это далеко от нас!
Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях
антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен,
товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя
влечет инстинкт здоровой природы, - мы начинали полукалеками жизнь; юноша в
двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или
безвольным ироником с разорванной душой; все не колеблющееся, не имеющее
противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а
механическим давлением огромного коллективного пресса, - все это составляло
рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного
негодования и независимости; но и это негодование зачастую затаивалось,
чтобы не раздразнить блюстителей порядка и быта.
Режим самодержавия, православия и официальной народности охранялся
пушками и штыками, полицией и охранкой. Могла ли общественность развиваться
нормально? Общественные коллективы влачили жалкое существование, да и то
влачили его потому, что выявили безвольную неврастению под формой
либерального фразерства, которому - грош цена; почва, на которой они
развивались, была гнилая; протест против "дурного городового" использовался
кандидатами на "городового получше"; "городовой получше" - от капиталиста,
который должен был собой заменить "городового от царя"; "городовой от царя"
устарел; капитализм, добиваясь свободы для себя, избрал средства угнетения
посильней; пресс, более гнетущий, чем зуботычина, был одет в лайковую
перчатку конституционной лояльности; бессильные либеральные говорильни
выдавали себя за органы независимости; но они были и до свержения
самодержавия во власти "городового получше", который - похуже еще.
Наконец: и в гнилом государственном организме, и в
либерально-буржуазной интеллигенции сквозь все слои ощущался отвратительный,
пронизывающий припах мирового мещанства, .быт которого особенно упорен,
особенно трудно изменяем при всех политических переворотах.
"Городовой от царя" - давил тюремными стенами; либерал - давил фразами,
ореолом своей "светлой личности", которая чаще всего оказывалась "пустой
личностью" ; мещанин давил бытом, т. е. каждой минутой своего бытия.
Независимый ребенок, ощущающий фальшь тройного насилия, сперва уродовался
палочной субординацией (семейной, школьной, государственной); потом он
душевно опустошался в "пустой словесности"; наконец, он заражался инфекцией
мещанства, разлагавшего незаметно, но точно и прочно.
Таково - обстание, в котором находился ребенок интеллигентной семьи
средней руки еще до встречи с жизнью. Я воспитывался в сравнительно лучших
условиях; но и мне детство стоит, облитое соленой слезой; горькое, едкое
Каждый из друзей моей юности мог бы написать свою книгу "На рубеже".
Вспоминаю рассказы детства Л. Л. Кобылинского, А. С. Петровского и скольких
других: волосы встают дыбом!
Неудивительно, что, встретясь позднее друг с другом, мы и в линии общей
нашей борьбы с культурной рутиной не могли выявить в первых годах
самостоятельной жизни ничего, кроме противоречий; скажу более: ими и
гордилась часто молодежь моего времени, как боевыми ранами; ведь не было не
контуженного жизнью среди нас; тип раздвоенного чудака, субъективиста был
поэтому част среди лучших, наиболее нервных и чутких юношей моего времени;
теперь юноше нечего отстаивать себя; он мечтает о большем: об отстаивании
порабощенных всего мира.
В мое время - все общее, "нормальное", не субъективное, неудачливое шло
по линии наименьшего сопротивления: в моем кругу. И потому среди молодежи,
вышедшей из средне-высшей интеллигенции, "нормальна" была - разве опухоль
мещанского благополучия (один из "образованных" родителей моего друга для
здоровья давал сыну деньги, советуя ему посещать публичные дома); "здорова"
была главным образом тупость; "обща" была безответственная
умеренно-либеральная болтовня, в которой упражнялись и Ковалевские и...
Рябушинские; социальность означала чаще всего... покладистый нрав.
Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, в пику обстанию
аплодировали всему "ненормальному", "необщему", "болезненному", выявляя себя
и антисоциально; "чудак" был неизбежен в нашей среде; "чудачливостъ" была
контузией, полученной в детстве, и непроизвольным "мимикри": "чудаку"
позволено было то, что с "нормального" взыскивалось.
Меня спросят: почему же молодежь моего круга мало полнила кадры
революционной интеллигенции? Она отчасти и шла в революцию; не шли - те, кто
в силу условий развития оставались социально неграмотными; или те, кто с
юности ставили задачи, казавшиеся несовместимыми с активной революционной
борьбой; так, например, я: будучи социально неграмотен до 1905 года, уже с
1897 года поволил собственную систему философии; поскольку мне ставились
препоны к элементарному чтению намеченных книг, поскольку нельзя было и
заикнуться о желанном писательстве в нашем доме, все силы ушли на одоление
быта, который я зарисовал в книге "На рубеже двух столетий".
То же произошло с друзьями; мы, будучи в развитии, в образовании скорей
среди первых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении
относительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытекает, что мы
были хуже других; мы были - лучше многих из наших сверстников.
Но мы были "чудаки", раздвоенные, надорванные: жизнью до "жизни"; пусть
читатель не думает, что я выставляю "чудака" под диплом; - "чудак" в моем
описании - лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так
боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел
особенно деформированным.
Изображая себя "чудаком", описывая непонятные для нашего времени
"шалости" (от "шалый") моих сверстников, я прошу читательскую молодежь
понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим
временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас
печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений.
Я хочу, чтобы меня поняли: "чудак" в условиях современности -
отрицательный тип; "чудак" в условиях описываемой эпохи - инвалид,
заслуживающий уважительного внимания.
Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших
людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд
имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг
меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов,
Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д. Не было одного имени -
Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к
словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя
Маркса - нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в
контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической
литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу,
Лок-ка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он
трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии:
читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и
т. д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я
раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и -
переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец
Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог2, глубоко
страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко
козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого
сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило
б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской
известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.
Так что - первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один
шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена
Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве,
Туган-Барановский, Маркс;3 казались смешными возражения "какого-то" Маркса;
возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по
брошюрам и главным образом по полемике с ними "Вопросов философии и
психологии"; а то - Маркс: "какой-то" Маркс!
Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от
научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня;
придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал
я о Ленине.
Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о
Ленине) не хотели знать.
Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я
должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал:
Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов (Дидро,
Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера,
Молешотта, стыжусь, - Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства
сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX
столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом
отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал
потом). Что же я читал?
Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Риля, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера,
Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, "Опыты" Бэкона
(Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии
естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий,
истории культур, журнал "Вопросы философии и психологии"; я прочел множество
книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, - книг, из которых
эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение
Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я
увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием
собственных юношеских "эстетик" (под влиянием эстетики Шопенгауэра)4.
Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода;
борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть
угнетавшую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в
средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою
"наукоподобную" теорию за научную (на ее "научность" ловились и физики); я
шел "преодолевать" Канта изучением методологий Риля, Рик-керта, Когена и
Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в
противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта;
я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее
построить на "анти" - вместо того, чтобы начать с формулировки основных
собственных тезисов.
Из "анти" не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому
символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и
выходило: "символ" - ни то ни это, ни пятое ни десятое. Что он - я не
сформулировал; сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать
исследование.
Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных
позиций не видели б перенесения их в "сегодня"; рисуемое мной -
характеристика далекого прошлого; и менее всего она есть желание выглядеть
победителем.
Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя; без них
читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы, - пусть бурлили путано,
пусть напускали туман, но мы - бурлили; бурлил особенно я; и люди и факты
воспринимались в дымке идей; без нее мемуары мои - не мемуары; ссоры, дружбы
определяла она; и потому не могу без искажения прошлого ограничиться
зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов; мемуары
мои не сборник анекдотов; я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало
быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только
субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из
сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи
1901 - 1905 годов в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с
которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения;
поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления
первых встреч; многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их
показываю на отрезке времени; переменились - Эллис, В. Иванов, Мережковские,
Брюсов. Мережковский, еще в 1912 году кричавший, что царское правительство
надо морить, как тараканов... бомбами, где-то за рубежом кричит - о другом;
коммунист в последней жизненной пятилетке, Брюсов в описанную мною эпоху -
"дикий" индивидуалист, с наслаждением эпатирующий и буржуа и нас; конечно,
он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности; я
полагаю, что молодой, "дикий" Брюсов, писавший о "бледных ногах"5, Брюсов,
которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с
правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким,
каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший
"эмигрантом" при царском режиме, - теперешний ли Бальмонт-"эмигрант"?6
Я рисую людей такими, какими они мне, да и себе, казались более чем
четверть века назад; было б бессмысленно подсочинять в стиле конечного их
развития начало пути их; это значит: сочинять факты, которые не имели места,
молчать о фактах, имевших место.
В основу этих воспоминаний кладу я сырье: факты, факты и факты; они
проверяемы; как мне утаить, например, что Брюсов ценил мои юношеские
литературные опыты, когда рецензии его обо мне, его записи в "Дневниках" -
подтверждают это? Как мне утаить факт его вызова меня на дуэль, когда письмо
с вызовом - достояние одного из архивов;7 оно всплывет - не сегодня, так
завтра; стало быть, - встанет вопрос, каковы причины нелепицы; серьезная
умница, Брюсов, вызвал на дуэль, когда предлог - пустяк; я вынужден был
осторожно, общо вскрыть подлинные причины пробежавшей между нами черной
кошки. В зарисовке натянутых отношений между мной и Брюсовым эпохи 1904 -
1905 годов я все же должен показать, что мы впоследствии ликвидировали
испорченные отношения. Вот почему, рисуя Брюсова не таким, каким он стал, а
таким, каким был, и подавая его сквозь призму юношеских восприятий, я
поневоле должен оговорить, что этот стиль отношений переменился в будущем;
было бы несправедливо заканчивать толстый том ферматой моего тогдашнего
отношения к Брюсову; тогдашнее отношение едва ли справедливо; Брюсов вызывал
меня на дуэль в феврале - марте 1905 года; воспоминания обрываются на весне
1905 года же. Не будучи уверен, что мне удастся написать второй и третий том
"Начала века", я вынужден к показу отношений 1905 года написать прибавочный
хвостик, резюмирующий итог отношений; ибо я храню уважение к этой
замечательной фигуре начала века; победил меня Брюсов поэт и "учитель".
Наоборот: рисуя дружбу свою с Мережковскими, я не могу победить в себе того
яркого протеста против недобрых себялюбцев, который отложился в итоге нашего
шестнадцатилетнего знакомства. При характеристике Вячеслава Иванова 1904
года я должен подать его сквозь призму позднейших наслоений вражды и дружбы;
иначе вырос бы не Вячеслав Иванов, - карикатура на него; он явился передо
мною в ту пору, когда личные переживания исказили мне восприятие его
сложного облика; попросту в 1904 году мне было "не до него"; отсюда: краткая
история наших позднейших отношений необходима при характеристике первой
встречи; если был бы я уверен, что напишу и последующие воспоминательные
тома, я бы не торопился с этой характеристикой; не было бы заскоков и в
будущее; заскоки - тогда, когда показанные личности на малом протяжении лет
восприняты превратно, несправедливо, когда выявления их передо мной не
характеристичны, мелки, а они заслуживают внимания.
Наоборот, лица, с которыми я ближе общался и относительно которых нет
аберрации восприятий в эпохе 1901 - 1904 годов, зарисованы так, как я их
видел в поданном отрезке времени.
Если бы я зарисовал свои отношения с Эллисом и Метнером эпохи 1913 -
1916 годов, я передавал бы вскрики боли и негодования, которые они вызывали
во мне; встали бы два "врага", под флагом былой дружбы всадившие мне нож в
сердце;8 но в рисуемую эпоху не вставало и тени будущих расхождений; и я
рисую их такими, какими они мне стояли тогда.
Труднее мне с зарисовкой Александра Блока; мало с кем была такая
путаница, как с ним; мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных
мотивах; еще и не время сказать все о нем; не во всем я разобрался; да и
люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим
высказываниям. Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так
ненавистен, как он: в другие периоды, лишь с 1910 года выровнялась
зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько
далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил, как никого; временами
свидетельствует моя рецензия на его драмы, "Обломки миров", перепечатанная в
книге "Арабески"9. Блок мне причинил боль; он же не раз с горячностью
оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было - идиллии, не было
"Блок и Белый", как видят нас сквозь призму лет.
Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок; рисуя
его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного;
Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов;
я же рисую время выхода первого тома; истерическая дружба с четою Блоков в
описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на
равных правах с ними; я их переоценивал, и я не мог обнаружить им узла
идейных недоумений, бременивших меня; "зажим" в усилиях быть открытым, - вот
что мутнило восприятие тогдашнего Блока; этот том обрывается У преддверия
драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905 - 1908 годов. В июле
1905 года обнаружилась глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году
провалом, через который перекинули было мы мост; но он рухнул с начала 1908
года. Лишь в 1910 году изжилась эта трещина. Блок, поданный в этом томе,
овеян мне дымкой приближающейся к нам обоим вражды; ее не было в сознании;
она была - в подсознании; летнее посещение Шахматова в 1905 году - начало
временного разрыва с Блоком.
Еще одно недоразумение должно быть устранено при чтении этой книги; без
оговорки оно может превратно быть понято: условившись, что мои искания
тогдашнего времени, "макеты", которые мне приходится здесь в минимальной
дозе воспроизвести, рисуют меня пусть в путанице идей, но - идей, а не
только художественных переживаний; я рисую себя обуреваемым предвзятой
идеей, что я философ, миссия которого - обосновать художественные стремления
и кружка друзей, и тогдашних символистов; таким я видел себя; от этого мои
заходы в различные философские лагери, не имеющие отношения к литературе: в
целях учебы, а иногда и выяснения слабых сторон течений мысли, которые мне
казались особенно опасными для будущей теории символизма; заходы эти с
А.БЕЛЫЙ «НАЧАЛО ВЕКА» - ИЗВЛЕЧЕНИЕ – ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
Мемуарная трилогия А Белого состоит из следующих книг: «На рубеже двух столетий» (1930 г.), «Начало века» (1933 г.), «Между двух революций» (1934 г.).
«Книга Андрея Белого "Начало века" вышла почти накануне его кончины. Она представляет собою второй том его воспоминаний: первый появился несколько лет тому назад под заглавием "На рубеже двух столетий". В нем говорилось о детских, гимназических и студенческих годах автора. В "Начале века" встречаем мы уже молодого писателя - не Бориса Бугаева, а Андрея Белого. В книге почти пятьсот страниц, но охватывает она весьма небольшой отрезок времени - лишь с 1901 по 1906 (приблизительно) год. Успел ли Белый продвинуться дальше в своих воспоминаниях и суждено ли нам прочесть им написанное - я не знаю» (В.Ходасевич).
1. О себе, жизни, литературе
2. Об А.Блоке
3. О.В.Брюсове
4. О Дм.Мережковском и З.Гиппиус
5. О.К.Бальмонте
6. О Вяч.Иванове
7. О Ф.Сологубе
8. Из Примечаний к книге
1. О СЕБЕ, ЖИЗНИ, ЛИТЕРАТУРЕ
Что же я делал? Грыз логики, которые мог бы не грызть, да идеологически «прел» в говорильнях тогдашнего времени, да полемизировал главным образом с теми, с кем со стороны сливали меня; откройте мои книги: «Арабески»; «Символизм», «Луг зеленый»; они наполовину - полемика; две трети полемики - полемика с Вячеславом Ивановым, Блоком, Чулковым, Городецким, театром Коммиссаржевской, Антоном Крайним (З. Н. Гиппиус), т. е. с теми, с кем створяла меня тогдашняя пресса.
Ссылаюсь на факт состава моей полемики, не опровержимый ничем; он свидетельствует, что я не чувствовал единомыслия среди нас, символистов; более того: в то время я отрицал в моих друзьях теоретиков; теоретиком считал я себя; не хвалю себя: в этом сказалось высокомерие; увы! - так было; всякую попытку оформить символизм со стороны других символистов я браковал как попытку с негодными средствами; отсюда: ощущение идейного одиночества среди «своих», даже не чужих; я восхищался стихами Блока, Брюсова, Вячеслава Иванова; я отрицал как философов их, силясь одернуть их там, где они философствовали.
Мне казалось: только я среди других символистов хаживал в гости к отвлеченным философам, «прел» с ними на их языке; и, хотя они меня не считали своим, я все же самочинно считал себя - в их «звании»: Брюсова интересовала история, литература, тактика, а не отвлеченная философия, которой он занимался в юности; мысли его были мыслями умницы, козырявшего от скептицизма; метод споров его - сократический: жать противника: от противного; он давал поправки на факты; Вячеслав же Иванов, которого филологические, исторические познания я чтил, в философских потугах своих мне казался метафизическим догматиком; отсюда мои окрики на него в эпоху 1906–1908 годов: «Не так, не эдак, - не туда!» [См. «Арабески», «Луг зеленый»]
С момента же, когда он стал теоретиком петербургской группы, он сел для меня в калошу [См. «Арабески»: «Штемпелеванная калоша»]. Чулков со своими выходами в «соборность» и широкоохватными манифестами казался, особенно в ту пору, «мне неприемлемым»; я много погрешил, пишучи о нем прямо-таки в позорно-недостойном тоне. Блок откровенно не любил философии; откровенно не понимал ничего в ней; я уважал его за откровенный отказ от отвлеченностей; тем более я бесился, когда он присоединялся к «меледе» (иначе не называл я теорий мистических анархистов); это присоединение казалось мне: в пику «Белому», назло «Белому», ибо с «Белым» испортились его отношения в разгар полемики символистов: с символистами же.
Квартира Соловьевых связалась мне с авторством. В 1901 году я колебался: кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор иль критик? Я в «критика», даже в «философа» больше верил, чем в «литератора»; вылазки - показ отцу слабоватых стихов и «Симфонии» другу - посеяли сомнения в собственном «таланте»: отец стихи - осмеял; друг откровенно отметил, что я-де не писатель вовсе.
Не будь Соловьевых, «писатель» к 1903 году совсем бы исчез с горизонта; но Соловьевы меня тут поддержали всемерно; Сереже, еще гимназистом, читал я убогие кропанья свои, приведя его в бурный восторг; и его карандаш, разрывая страницу, влепил: «Пре-вос-ход-но!»
Только в июле дописываю я свою первую книгу: пишу четвертую часть; в ней показан провал бреда «мистиков»; и одновременно получаю письмо от Сережи; он пишет, что в Дедове гостил «кузен» А. А. Блок, чтящий В. Соловьева, в кого-то влюбленный и пишущий великолепно стихи; это были первые стихи о «Прекрасной Даме»; то, что у Блока подано в мистической восторженности, мною подано в теме иронии; но любопытно: и Блок и я, совпав в темах во времени, совсем по-разному оформили темы; у Блока она - всерьез, у меня она - шарж.
Ранней осенью - цикл разговоров о Блоке: в семье Соловьевых; показан впервые мне ряд его стихотворений, великолепно сработанных; до этого «поэт» Блок мне был неведом; я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока и ее распространителем;24 Соловьевы решают, что Блок - симптом времени, как речи Батюшкова, уже частящего к нам, как пожары слов Эртеля, вынырнувшего из бездны, как весть о Рачинском, о Льве Тихомирове, как появленье, внезапное, самой «двуногой Софии» из Нижнего: Шмидт, - в кабинете М. С. Соловьева: именно в эту осень.
Уже в сентябре я читаю «Симфонию» у Соловьевых в присутствии «Сены» (П. С. Соловьевой); М. С, взявши рукопись, передает ее Брюсову; Брюсов ему отвечает письмом: де «поэма» прекрасна; ее «Скорпион» напечатает, но у издательства ряд обязательств: книг, намеченных к печати; денег - нет; надо ждать; это - жаль; «Скорпион» дал бы марку свою, если б кто-нибудь книгу решился печатать сейчас же.
Тогда М. С. сам решает напечатать «Симфонию», под «скорпионовской» маркой; обложка придумана мною; «Симфонию» сдали в набор, псевдонима же не было; мне, как студенту, нельзя было, ради отца, появиться в печати Бугаевым, и я придумываю псевдоним: «Буревой».
- «Скажут - Бори вой!» - иронизировал М. С; и тут же придумал он: «Белый».
Мне квартира М. С. Соловьева как форточка в жизнь; она - студия изучения типов; но она же - место встречи с людьми, которые вовлекли меня в литературу собственно.
Здесь встречался с Владимиром Соловьевым; здесь встретился с Мережковским и Зинаидою Гиппиус; сюда водил со стороны своих новых друзей: напоказ строгому оценщику людей, М. С. Соловьеву; здесь познакомился с Рачинским, с Валерием Брюсовым; отсюда попал в «Скорпион», к д"Альгеймам; здесь, наконец, было заложено начало тому, чтобы мне до встречи встретиться с Александром Блоком в письмах.
Дорогая по воспоминаниям квартира эта стоит в памяти, как водораздел двух эпох: и потому-то особенно волновали меня встречи двух эпох в квартире этой; с одной стороны, декаденты и те, кого я видел новаторами; с другой стороны, - люди старого поколения: Сергей Трубецкой, Ключевский, Огнев, доктор Петровский, староколенней-шая писательница Коваленская.
С иными из стариков я разорвал именно потому, что действия на меня этой квартиры привели к скандалу с «Симфонией»: меня прокляли Лопатин и Трубецкой, чтоб… - чтоб… снова встретиться: в салоне Морозовой; но там уже встреча - сдача ими непримиримых позиций.
«Бесовская» группа - есть группа или разнобой?
Брюсов - нет, мне не пара. А кто пара мне? Есть традиция думать, что - Блок; на показанной четырехлетке достаточно ясно: не пара: сентиментально нас парить; в «распре» страстей, дважды схватываясь за оружие, парились мы; лишь к 1910 году мы остыли до дружбы, холодно-духовной; в интимную жизнь наших личностей мы не глядели, минуя ее; и на этом основана «дружба», которая есть констатация: в том-то, и том-то, и том-то согласны; а в том-то - расходимся; если бы вглядывались в интимные жизни друг друга, в живое теченье идеи, моральной фантазии, то, вероятно, «распарились» бы опять до больших неприятностей; так что я спрашиваю: Блок мне кто? Противленец, союзник, враг, друг, символист или - кто?
В годы узкой захваченности символизмом В. Брюсова Блок символизмом ругался; а в годы предания символизма В. Брюсовым Струве Блок каялся в том, что когда-то предал символизм.
В. Иванов, опять-таки, - кто для меня? Противленец, союзник, враг, друг? Я нарочно в трех главочках дал материал к диалектике сложных, запутанных с ним отношений, в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности; нудилось что-то во взаимодействии нашем меж нами; какая-то лаборатория опытов строилась даже в полемике; не говоря о моментах согласий; но можно ль назвать то согласие полным?
Скорее пытался я для равновесия строимого между нами морально-идейного мира то Брюсовым уравновесить Иванова, то в пику Брюсову выдвинуть мировоззренье Иванова; и совершенно сознательно действовал я, потому что я знал: символизма как школы и нет, и не будет; а мировоззренье построено будет сквозь школы и мировоззренья; и вовсе не нужно для мировоззрения этого ряда пустых этикеток, как-то: символизм, символ; знал же я с первого года столетия, так же, как знаю в 30, что догмат, единственный, мировоззрения строимого есть борьба с догматизмом; в известный период лаборатория наших исканий с удобством могла обозначена быть: символизмом; те, кто думал, что символизм ряд готовых построек, с удобством ощупываемых, весьма ошибались, лишь надпись столба путевого с протянутым пальцем; не здание, - только дорога, бегущая за горизонт; символизм - это значило: «к северу»; мы, путешественники, - В. Иванов, В. Брюсов, А. Блок - отправлялись на север; пройдя километров пятнадцать, я видел загиб в направлении западном; дальше: загиб: в направлении восточном, опять возвращающем к северу; Блок и Иванов, не видя загиба, лупили на север, к конечным путям символизма - к «коммуне людей»; а мы с Брюсовым к западу перли, крича: «Эй, товарищи, здесь заплутаетесь, здесь хода нет!»
Так мне это виделось; Блоку, Иванову, Брюсову виделось это, вероятно, иначе; и, если б не я, а они написали бы «Начало века», читатель увидел бы, как плутал зря «Андрей Белый», сбиваясь с дороги.
Я вспоминал, как только еще три года назад я жаждал познакомиться с новыми людьми: Мережковский, Брюсов, Блок виделись издали в романтическом ореоле; то, что окружало, казалось плесенью; и вот я добился своего; ценой проклятий по моему адресу я вырвался из постылого мне обстания; университет - за плечами; поставленная мной себе цель - осуществлена: я стал - писателем; ко мне прислушиваются; Брюсов, Блок, Мережковский - мои друзья; почему ж грусть охватывает?
Мережковский, Блок, Брюсов - совсем не «герои»: запутанные, самопротиворечивые, как и я; стоит ли биться за новое, если новое не так уж ново? Такие лукавые мысли посещали меня.
Отношение Блока и меня к Сологубу, Бальмонту, Брюсову сперва - отношения почтения издалека; задержь относилась к противоборствованию идее коллектива; «Я» немыслимы без «мы».
С 1905 года стерлись контуры, отделявшие символистов первой «волны» от «второй»; во мне - разрывом с Блоком и союзом из тактики с Брюсовым; в Блоке - близостью с Чулковым, Городецким и Вячеславом Ивановым.
И Брюсов меняет позиции: он проявляет организаторский талант, отдаляясь от Бальмонта; ряду моих лозунгов он говорит «да» в статье «Священная жертва», отрекаясь от соллипсизма.
Но в первой встрече он мне скорее - попутчик, чем явный союзник.
В 901–902–903 годах я подчеркивал связь с Блоком и отъединенность от Брюсова в кружке, названном «Арго», мы считали себя аргонавтами, плывшими от «декадентства» к поискам новой коммуны: по-новому «жить», а не «писать», - лозунг, соединявший нас.
Из ячейки искателей я протягивался к голосам, утверждавшим новую жизнь; таким голосом был и голос Meрежковского, пока не вскрылась фельетонная церковность казавшихся издали революционных стремлений; таким голосом был голос юного Блока, приглашавшего нас «связывать руки»; разочаровавшись в обоих, я внял роговому фальцетто Брюсова, звавшего в фалангу борцов; если не за жизнь, то «хоть» за искусство.
Мысли о символизме как жизненном пути, осуществляемом в коллективе, сменились мыслями о «литературной школе», разрабатывающей методологию.
Не закрываю глаз на свои промахи; но пребываю в недоумении: символисты перескочили через символизм; историки новейшей русской литературы отметили в символизме на 80 % то, с чем я боролся, не отметив того, что я защищал; я боролся с музейной редукцией вправо, боролся с «мистическим анархизмом», гипертрофирующим в символизме мистику; эти наросты и фигурируют в качестве мифов о символизме 1) у квазисимволистов, 2) у квазиизобличителей; распространяются пародии на символизм: субъективно-иллюзионистические сюсюки об «искусстве для искусства»; символизм же - выдвигает лозунг «искусство - не только искусство»; под флагом символизма доселе плавает в сознаниях «мистический анархизм».
2. Об А.БЛОКЕ
Труднее мне с зарисовкой Александра Блока; мало с кем была такая путаница, как с ним; мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных мотивах; еще и не время сказать все о нем; не во всем я разобрался; да и люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим высказываниям.
Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он: в другие периоды, лишь с 1910 года выровнялась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил, как никого; временами он вызывал во мне дикое отвращение как автор «Нечаянной радости», о чем свидетельствует моя рецензия на его драмы, «Обломки миров», перепечатанная в книге «Арабески».
Блок мне причинил боль; он же не раз с горячностью оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было - идиллии, не было «Блок и Белый», как видят нас сквозь призму лет.
Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок; рисуя его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного; Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов; я же рисую время выхода первого тома; истерическая дружба с четою Блоков в описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на равных правах с ними; я их переоценивал, и я не мог обнаружить им узла идейных недоумений, бременивших меня; «зажим» в усилиях быть открытым, - вот что мутнило восприятие тогдашнего Блока; этот том обрывается У преддверия драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905–1908 годов.
В июле 1905 года обнаружилась глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году провалом, через который перекинули было мы мост; но он рухнул с начала 1908 года.
Лишь в 1910 году изжилась эта трещина. Блок, поданный в этом томе, овеян мне дымкой приближающейся к нам обоим вражды; ее не было в сознании; она была - в подсознании; летнее посещение Шахматова в 1905 году - начало временного разрыва с Блоком.
Лед стал ломаться; все же: Блок - меланхолик; а я был сангвиник; обоим пришлось-таки много таиться от окружавших; он чужд был: студенчеству, отчиму, родственникам, Менделеевым, плотной военной среде, средь которой он жил (жил - в казармах); он испытывал частый испуг пред бестактностью; а к суесловию - просто питал отвращенье, которое он закрывал стилем очень «хорошего тона»; скажу я подобием: анапестичный в интимном, он облекся в сюртук свой, как в ямб.
Ямбом я не владел, выявляя себя в амфибрахии: в чередованьи прерывистом очень коротеньких строчек; мой стиль выявленья - сумятица нервная очень на людях: при тихости внутренней; внутренне бурный, - на людях тишел он.
Столкнулись контрастами!
Всякий сказал бы, взглянув на меня, что - москвич: то есть - интеллигент, такт теряющий; вся моя роскошь - сюртук, надеваемый редко; пиджак же висел как мешок, потому что его не заказывал, а приобрел в дрянной лавке, леняся примерить. Взглянувши на Блока, сказали бы все: дворянин, натянувший улыбку хорошего тона, как выправку, чтоб зевок подавить; но - душа сострадательно-ласковая: к бедным ближним.
Я выглядел - интеллигентней, нервнее, слабее, рассеянней, демократичней его; интеллектуальнее и здоровее меня он казался; мы оба не выявили в себе стилей наших поэзии; никто не сказал бы, взглянувши на Блока, что он - автор цикла «видений» своих; он, по виду, писал даже крепче Тургенева, - но по Тургеневу, так же охотясь: в больших сапогах, с рыжим сеттером. Взгляд на меня возбудил бы догадку: рифмует - «искал - идеал»; в довершение недоумения Блока: я был перетерзан провалом «Кружка» и запутанными отношеньями с Н***.
Вид - не «суть».
Под «дворянскою» маскою в Блоке, конечно же, жили: и Пестель, и Лермонтов; а под моими «идеями» прочно засел методолог, весьма осторожно ощупывающий и всегда выжидающий мнения ответного; с виду ж дающий авансы: всем стилем речей, приспособленных для собеседника; так: торопясь, вперед забегая в словах, я был - крепче, спокойней; и, да, - терпеливей: он не выносил разговоров, которые я выносил, их отстрадывая.
Вскоре Блок мне признался: был миг, когда он не поверил в меня, в этом первом сидении, чувствуя, что я - «не тот»; и такое себя отражение в нем - я почувствовал тоже; «Бугаев совсем не такой», - писал матери он из Москвы.
Я в тот день ощутил его старшим (мы были ровесники).
Вот еще штрих: если б А. А. стали расспрашивать о нашей встрече, он словом отметил бы внутреннее, что возникло меж нами, без психологической характеристики и без нюансов; он матери пишет, что«…дверь соловьевской квартиры с надписью „Доктор Затонский“. Бугаев и Петровский говорят, что его нет - затонул в тростниках»; ракурс характеристики; иль: «Господин… определенный мною: забинтованное брюхо»; [ «Письма Блока к родным», стр. 102] или: «Сидим с Бугаевым и Петровским под свист ветра. Радуемся» [Там же127].
Я же прислушивался к обертону, к нюансам, слова забывая; весь первый мой с ним разговор позабыт; помню только, что я признавался в трудности с ним говорить; он же точку поставил над «и»:
- «Очень трудно!»
Я - анализировал трудности, вдруг спохватись, что при первом визите анализ такой неуместен; Блок перетерпел с благодушием; и поразил «тихой силой» молчанья, слетающего с загорелого, очень здорового, розового, молодого, красивого очень лица: безо всякого «рыцаря Дамы»; стиль старых витражей, иль «средних веков», или Данте - не шел к нему; что-то от Фауста.
Силою этою он озарял разговор, излучая тепло, очень кровное; «воздуха» ж - не было.
Слушая наклоном большой головы, отмечающей еле заметным кивочком слова свои, произносимые громко, и все же придушенным голосом, чуть деревянным; дымок выпуская, разглядывал, щуря глаза, повисающие и сияющие из солнечного луча дымовые светлобрысые ленты.
Он вызвал во мне впечатление затона, в котором таится всплывающая из глубин своих рыбина; не было афористической ряби, играющих малых рыбеночек, пырскающих и бросающих вверх пузырьки парадоксов, к которым привык я, внимая - Рачинскому, Эллису; он говорил тяжело, положительно, кратко, с ирихрипом, с немногими жестами, стряхивая пепелушки; а все-таки «мудрость» дышала в скупом этом слове; а легкость, с которою будто бы он соглашался на все, была косностью, ленью; прижми его крепко к его же словам: «Может быть, это так», - он возьмет их назад.
- «А пожалуй, я думаю, что и не так… Знаешь, Боря, - не так».
Не свернешь!
Все то в первом свидании же стало ясно, упорно взывая к работе сознания: я ожидал его видеть - воздушным; меня подавила интеллектуальность его.
Юмор А. А. меня не провоцировал; и без Сережи бывание с Блоками делалось тихим, но грустным уютом; А. А не шутил: утонченнейше юморизировал, характеристик не строя; он черточкой, поданным метким, сражающим словом бил наповал; раз он выразил разность меж нами коротенькой фразою: - «Ты, Боря, - мот, я - кутила»; «кутила» - способность отдаться; «мот» - россыпь словесная: от беззащитности, от немоты; и - раздача авансов: долги неоплатные!
Поразила грамматика речи в тот вечер: короткая фраза; построена просто, но с частыми «чтоб» и «чтобы», опускаемыми в просторечии; так: «я пойду, чтоб купить» - не «пойду купить»; или: «несу пиво, чтоб выпить»; а деепричастий - не употреблял, говорил без стилистики; фразы - чурбашки: простые и ясные; в них же, как всплески, темнотные смыслы; они, как вода, испарялись: вниманье вперялось за текст; я потом раздражался на ясную эту невнятицу.
- «Блок безглаголен!» - рыкал Мережковский.
Помню, в тот вечер читали стихи: он, я, Брюсов; я - «Тора»; он - «Фабрику», «Встала в сияньи», а Брюсов - «Конь блед», - если память не изменяет.
Поразила манера, с которой читал, слегка в нос; не звучали анапесты; точно стирал он певучую музыку строк деловитым, придушенным, несколько трезвым и невыразительным голосом, как-то проглатывая окончания слов; его рифмы «границ» и «царицу», «обманом - туманные» в произношении этом казалися рифмами: «ый», «ий» звучали как «ы», «и»; не чувствовалось понижения голоса, разницы пауз; он будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам.
И лицо становилось, как голос: тяжелым, застылым: острился его большой нос, складки губ изогнувшихся тени бросали на бритый его подбородок; мутнели глаза, будто в них проливалося слово, он «Командором» [Стихотворение Блока] своим грубо, медленно шел по строке.
Это чтение вызвало бурный восторг.
Позднее я сам испытал оскорбительность самого облика Блока в эпоху, когда мы, рассорясь, не кланялись: на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я Блока; зажав в руке трость, пробежал в бледно-белой панаме, - прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих оскорбительных губ; они чувственно, грубо пылали из серо-лилового с зеленоватым потухшего фона просторов. Он не видел меня.
Оскорбил меня этот жест пробегания с щеголеватою тросточкой, на перевесе, пырявшей концом перед ним возникавших людей; а слом белой панамы казался венцом унижения мне: как удар по лицу!
«Как он смеет?» - мелькнуло. Он не видел меня.
А в период сближения не было меры в желании снизиться, все уступить; он - не требовал, он удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности; «поэт» пересекался со скептиком в нем; и бросалась в глаза непричастность его интеллекта к «лирическим» веяньям; как посторонний, его интеллект созерцал эти веянья: издали!
Воля кипела, но - в мареве чувственном, мимо ума, только зрящего собственное раздвоение и осознавшего: самопознания - нет!
Оставалось знание: это-де понял; а этого-де не понять; и вставала ирония, - яд, им осознанный, - только в статье об иронии; после он сам написал: «Самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой врачам. Эта болезнь… может быть названа „иронией“… все равно для них… Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба… и все мы, современные поэты, у очага страшной болезни» [Собр. соч., т. VII, изд. «Эпоха», стр. 107].
Я, не страдавший иронией, или страдавший ей менее, эту иронию силился сделать тенденцией, чтобы бороться с хотя бы Гейне, которого тут же цитирует Блок: «Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо»; [Там же] я требовал строго осознанного разделения сфер; и в эпоху борьбы моей с Блоком о Блоке писал: «Самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину)» [ «Арабески», стр. 465] И еще об «остротах» меня ужасающего «Балаганчика»: «Удивляет бумажный небосвод и вопль какого-то петрушки о том, что… кровь… жертвы… кровь клюквенная».
Вот на эти-то выпады моей «иронии» против «иронии» Блока он мне отвечал записанием в «полупомешанного», чтоб чрез годик сказать об иронии, переписав мои «полупомешанные» заявленья.
Причина иронии - некий толчок, отшибавший А. А. от него самого; отшибал в нем сидевший «остряк», полагающий: «In vino veritas» [См. стихотворение Блока «Незнакомка»].
С крупным знакомимся по мелочам; запах яда, его погубившего, я раз унюхал в нем: вскоре же; грани меж юмором и меж иронией неуловимы; а я - уловил.
Я выше отметил: ум Блока - конкретно-живой, очень чуждый абстракциям; уже я испытал полный крах переписки с ним: на философские темы, сведя ее - к образам, сказке, напевности и «баю-бай».
Дружба с поэтом - была мне опорою: в том смысле, что всякая личная дружба - опора; но сквозь нее - суетливое, мышью скребущееся за порогом сознания знанье О полном идейном банкротстве, подкрадывающемся к Александру Блоку, так сказать, со спины; и я переживал раздвоение: тема «зари» стала только «жаргоном» меж мной и поэтом, метафорой, теряющей реальный смысл, - вот что удручало меня и делало тем, кто казался Блоку не пьющим и не ядущим; трудно жить в тесной обуви; тесно мне было без «пира сознания»; Метнер меня пировать приучил; так недавно, ободранный жизнью, я прикосновением к Метнеру, к его культурным интересам, почувствовал себя рыбой в воде; здесь же, в Шахматове, где все пышнело природою чувственно-ласковой, где мне было так тепло, комфортабельно с Блоками, - половина меня самого почувствовала себя вдруг без воздуха, в смертельной тоске; точно я за два года пережил всю глубину разногласий, открывшихся вдруг между мной и поэтом уже в 1906 году.
Отсюда и «дерг», без возможности начистоту объясниться; я понял, что в Блоке есть и литературная культура, и вкус; а вот высшей культуры, расширенности сознания в стиле Гете, многообразия устремлений в нем не было! И оттого-то: в кажущейся широкости его была суженность интересов: слишком многое, чем мы с Метнером волновались всерьез, было ему непонятно и чуждо.
Мне идеология Блока-слепца невыносна не тем, что не видел логических выходов он: тем, что, живя уже в невылазном душевном мраке, спесиво писал из Москвы о каком-то пришествии «Саши и Любы» в столицу тогдашней Российской империи.
Чувство протеста против него на миг ожило в моем подсознаньи, когда я поглядел на него и почувствовал - что-то незрячее, нищее, медленным голосом точно «псалм» распевающее по дорогам; и вспомнилася спесь его фанфар в письмах ко мне летом 1903 года; прошел всего год, а что-то в нем решительно изменилось.
Раз Блок нам читал свои стихотворенья; лицо стало строгое, с вытянутым, длинным носом, с тенями; выбрасывал мерно, сонливо и гордо: за строчкою строчку; поднял кверху голову, губы открывши и не размыкая зубов; удлиненный, очерченный профиль, желтевший загаром; и помнился голос, глухой и расплывчатый, - с хрипом и треском: как будто хотел пробудиться петух; и - раздаться: напевом; и вот - не раздался: в бессилии старом угасло сознание; и относилася внятица, точно сухие поблекшие листья и шамканье скорбной старухи о том, что могло быть; и - чего не было.
Из всех писем его мне вставало, что он добрый и умник (в житейском смысле); и немного - остряк; но вставал - «идиот» (в упомянутом смысле).
На мое мыслимое про себя «идиот» он не раз мне ответствовал в будущем: «Разумею полупомешанных - А. Белый и болтунов - Мережковский» [Письмо это где-то хранится в списке у родственников Блока или у его жены; вместо объяснений отсылаю к лицам, хранящим текст письма].
В те годы я еще не знал его быта, его круга чтения; пишущий только о бабочках Фет - настоящий философ; Надсон философствующий есть невежда: Блок - думал я - мог быть и тем и другим. Оказался ж - ни тем, ни другим. С сентября стали мы писать «мимо» центральных тем, которыми я жил, ближе к событиям быта друг друга; писать стало легче....
3. О.В.БРЮСОВЕ
К этому времени подымается на моем горизонте фигура Валерия Брюсова; многие литературные судьбы с ним связаны.
С 1894 года до 1910 на него изливались потоки хулы, после ставшие сдавленным гулом хулы молодых неудачников: нашего стана; в 900–901 годах он ходил по Москве с записной своей книжечкой и с карандашиком, организуя молодых поэтов в литературную партию, сухо налаживая аппараты журналов, уча и журя, подстрекая, балуя и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных, - Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Греции, Латвии, Польши, Германии, - сковывая свой таран стенобитный с воловьим упорством.
Увенчанный лаврами «мэтр»; и - слуга: с подтиральною тряпкой в руке; даже чистильщик авгиевых литературных конюшен, заваленных отбросами, скопляемыми лет тридцать пять Скабичевским, Ивановым, Иван Иванычем, Стороженкой и Веселовским; Брюсов ухал на ужасы пошлятины ужасом дикости, изгоняя бред бредами; желтая кофта В. В. Маяковского, «татуировка» «бубновых валетов» [Группа художников, в свое время новаторов], кривляние Мариенгофа в эпоху, когда «фиги» стали предметом продажи почти в каждом колониальном магазине, - только повтор былой удали Брюсова при выполнении затеянной им партизанской войны, уничтожавшей армию трутней: отрядиком маленьким; до Маяковского соединил Маяковского, Хлебникова, Бурлюка с деловыми расчетами и с эрудицией опытного архивариуса, щедро сеющего крупной солью цитат, заставляя принять бронированный «бред», подносимый с практичностью лавочника.
Он умел объегоривать; и он - любил объегоривать дураков.
И мне все объяснило письмо, отвечающее на мой лозунг: «Не только литература». Оно - корень Брюсова; я привожу его как неизменный эпиграф к трагедии, бывшей меж нами.
Село Антоновка, 1904.
Дорогой Борис Николаевич! (И это слово - дорогой - примите не в «эпистолярном» значении, а в настоящем, первичном: как знак, что Вы, что всякое приближение к Вам мне желанно, дорого. И как жаль, что мы утратили возможность всегда, во всех случаях, все слова принимать в их настоящем смысле!) Дорогой Борис Николаевич! Я рад, что Вы написали свое письмо мне; даже больше чем рад, немного счастлив. Когда я читал его, я вдруг, как в молнии, увидал - Вас, того Вас… которого я опять иногда вижу в Ваших глазах, но далеко не всегда в общежитии, в Ваших разговорах, статьях, даже стихах. Конечно, Вы были неправы, обращаясь в своем письме ко мне с вопросами.
Почему не я к Вам? - и, просьба, на эти вопросы скорее Вам отвечать мне. И только моя горькая привычка молчать, пришедшая ко мне после десяти лет жизни, не дала мне бросить все те безнадежные «зачем» Вам. Думаю, «мы» все равно чувствуем их. И Ваше письмо - были все те же, наши общие, одинокие мысли, которые, когда они вновь приходят, даже нет необходимости вновь продумывать, так как все их пути уже истоптаны раздумьем.
И все-таки хотите ответ? Вернее, не ответ, а грустное признание, мое признание, которое кажется мне тоже нашим общим. Вот оно. Нет в нас достаточно воли для подвига. То, чего все мы жаждем, есть подвиг, и никто из нас на него не отваживается. Отсюда все. Наш идеал - подвижничество, но мы робко отступаем перед ним и сами сознаем свою измену, и это сознание в тысяче разных форм мстит нам. Измена… завету: «Кто возлюбит мать и отца больше меня!..»
Мы, вместе с Бальмонтом, ставим эпиграфом над своими произведениями слова старца Зосимы: «Ищи восторга и исступления», а ищем ли? то есть ищем ли всегда, смело, исповедуя открыто свою веру, не боясь мученичества (о, не газетных рецензий, а истинного мученичества каждодневного осуждения). Мы придумываем всякие оправдания своей неправедности. Я ссылаюсь на то, что мне надо хранить «Весы» и «Скорпион». Вы просите времени в четыре года, чтобы хорошенько подумать.
Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться «на своей должности». И все так. Двое разве смелее: А. Добролюбов и Бальмонт. И я думаю, что у Добролюбова нет этих криков «зачем?» - хотя он и облегчил свою задачу, назначив себе строгие уставы, надев тяжелые вериги, которые почти не дают ему свободы двигаться. И Бальмонт, при всей мелочности его «дерзновений», при всем безобразии его «свободы», при постоянной лжи самому себе, которая уже стала для его души истиной, - все же порывается к каким-то приближениям, если не по прямой дороге, то хотя бы окольным путем.
А мы, пришедшие для подвига… покорно остаемся в четырех условиях «светской» жизни, покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова, утратившие и первичный, и даже свой вторичный смысл. Мы привычно лжем себе и другим. Мы, у которых намеренно «сюртук застегнут», мы, которые научились молчать о том, о чем единственно подобает говорить, - вдруг не понимаем, что все окружающее должно, обязано оскорблять нас всечасно, ежеминутно. Мы самовольно выбрали жизнь в том мире, где всякий пустяк причиняет боль.
Нам было два пути: к распятию и под маленькие хлысты; мы предпочли второй. И ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор. Но мы не изменяем. Да, я знаю, наступит иная жизнь для людей; не та, о которой наивно мечтал Ваш Чехов («через 200–300 лет»), - жизнь, когда все будет «восторгом и исступлением»… Нам не вместить сейчас всей этой полноты. Но мы можем провидеть ее, можем принять ее в себя, насколько в силах, - и не хотим… Мы не смеем. Справедливо, чтобы мы несли и казнь.
Мне жаль, что всего этого я не могу сказать Вам в тот самый час, когда писалось Ваше письмо. Мне жаль, что пройдут дни - много дней - между тем, когда Вы мне писали и когда Вы будете читать этот ответ или эту исповедь. Я обращаю ее к Вам так же полно, как - верю - было обращено ко мне Ваше письмо. И так же уверенно подписываю я свои страницы. -
Вас любящий
Валерий Брюсов
Молодой, еще дикий, порывистый Брюсов встает передо мной, одной ногой - на эстраде, другой ногой в невыдирных «чащобах» самотерза, в которых он рыскал, юнцов озадачивая; таким был еще в 904 году (после - не был): до жуткости диким, до резвости пламенным.
Первые встречи: я вижу В. Я. каждый день; первоклассник я; он же - взъерошенный, бледный, в прыщах: семиклассник с усами; меня интригует он умной угрюмостью: я же круги пишу вокруг него.
«Кто он?» «Брюсов».
Видал я его в 900 году на представлении «Втируши», его мне показали в антракте; он стоял у стены, опустивши голову; лицо - скуластое, бледное, черные очень большие глаза, поразила его худоба: сочетание дерзи с напугом; напучены губы; вдруг за отворот сюртука заложил он угловатые свои руки; и белые зубы блеснули мне: в оскале без смеха; глаза ж оставались печальны.
В тот же вечер он публично читал; к авансцене из тени - длиннее себя самого, как змея, в сюртуке, палкой ставшая, - с тем передергом улыбки, которую видел я, - он поплыл, прижав руки к бокам, голова - точно на сторону: вот - гортанным, картавым, раздельным фальцетто, как бы он отдавал приказ, он прочел стихи, держа руки по швам; и с дерзкою скромностью, точно всадившая жало змея, тотчас же удалился: под аплодисменты.
Яд на публику действовал; действовала интонация голоса, хриплого и небогатого, но вырезающего, как на стали, рельефы; читал декадента, над которым в те дни Москва издевалась, - не свои стихи, а стихи Бальмонта; собравшиеся же демонстрировали: «Браво, Брюсов!» Стало быть: он нравился наперекор сознанию: рассудком ведь ругали его.
Знакомство с Брюсовым
Пятого декабря 901 года я встретился с Брюсовым. У меня сидел Петровский, когда я получил листок от О. М. Соловьевой: «У нас - В. Я. Брюсов: ждем вас»; позвонился, входим; и - вижу, за чайным столом - крепкий, скуластый и густобородый брюнет с большим лбом; не то - вид печенега, не то вид татарина, только клокастого (клок стоит рогом): как вылеплен, - черными, белыми пятнами; он поглядел исподлобья на нас с напряженным насупом; и что-то такое высчитывал.
Встал, изогнулся и, быстро подняв свою руку, сперва к груди отдернул ее, потом бросил мне движеньем, рисующим, как карандаш на бумаге, какую-то египетскую арабеску в воздухе; без тряса пожал мою руку, глядя себе в ноги; и так же быстро отдернул к груди; сел и - в скатерть потупившись, ухо вострил, точно перед конторкой, готовяся с карандашом что-то высчитать, точно в эту квартиру пришел он на сделку, но чуть боясь, что хозяева, я и Петровский его объегорим.
Этот оттенок мнительности, недоверия к людям, с которыми впервые вступал он в общение, был так ему свойственен в те годы: он был ведь всеми травим.
Понял: еще не зная меня, но «Симфонию» (писанный текст), о которой дал отзыв он, что она-де «прекрасна», прикидывал мысленно, кто я такой: мистик, скептик, софист, образованный или невежда, маньяк или насмешник, юродивый или кривляка; кем бы я ни был, сумел бы и он постоять за себя; этот тон де. ловой - понял я - был им выставлен, точно окоп иль конторка.
Помалкивал, слушая, что говорилось, примериваясь и учитывая интонации, вспыхами глаз и пылающею наблюдательностью, на меня обращенной, и этим он точно выхватил воздух из моего горла.
Себе в «Дневниках» записал: «Были два наших студента-декадента: Бугаев, Борис Николаевич (автор „Симфонии“), и… Петровский, чуть-чуть заикающийся» (стр. 40).
Он прикинулся: точно учитель словесности перед экзаменом, для вида макал усы: в стакан чая и приличия ради поддерживал разговор; я наблюдал его и думал: нет в картавых, поправочных фразах яркости; в вежливой, косой улыбке из хмури - нет шарма; я думал: вот примется он мне развивать впечатление от чтения моей «Симфонии»; а он, не спуская с нас уха (в глаза же не смотрел), мимо нас подавал точно рукой свое слово - М. С; а своей бровью подчеркивал свои смыслы: и трезво, и веско, не без архаизма; как будто он пришел к нам из тридцатых годов прошлого века; так беседовать мог Боратынский; Белинский уже - не мог.
Думалось: явно сидит, - как в черной маске, потому что татарин, печенег и учитель словесности - только «маски»: не прост! Исключительный «зверь» - неуютный; его не дразни: под себя подомнет, сев в засаду.
Этот подмин под себя я пронес по годам: взвешенность всех выражений с неявно вплетаемыми комплиментами ставила часто впросак, точно в угол, где мой пулемет от теории знания вовсе не действовал, но где рапира софизма его отовсюду меня щекотала, и точно невидимый шепот я слышал:
- «Борис Николаевич, вы не деритесь со мной: я и так вас щажу: будет плохо!»
Еще до обмена словами прошел лейтмотив наших будущих отношений: я, помнится, высказался: нет границы меж здравостью и меж психозом.
- «Я с вами согласен», - отрезал, не глядя, В. Я.; и тоскливо едва передернулись губы, а зубы блеснули; М. С. перевел разговор на «Симфонию».
- «Ах!» - завозился Брюсов, засунувши руку в карман, и стал обсуждать детали ее печатанья: - «Мое мненье о книге известно ведь вам», - бросил с досадой он мне, и, не знай я его отзыва, я мог бы подумать, что книга моя ему неприятна.
Провожая Бальмонта в далекую Мексику, встал он с бокалом вина и, протягивая над столом свою длинную руку, скривясь побледневшим лицом, он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул: - «Пью, чтоб корабль, относящий Бальмонта в Америку, пошел ко дну!»
В ту эпоху меж ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла; шутка злою гримасою выглядела.
Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил - разгильдяйство и лень, не любя молотьбы языком по соломе; тогда называли нас «псами» его; эти слухи бросались Койранскими, Стражевым и Городецким и всеми, кого отвергали «Весы»; должен здесь же сказать: когда поняли мы, что приходит опасный момент, - осознав нужность «шефства», подняли на щит его (Балтрушайтис, я, Соловьев, Садовской, Эллис и др.), но - для других; сознаюсь, щит с тяжелой фигурою этой гнул шеи; кряхтели без ропота, даже с любовью.
Он, некогда поднятый нами на щит, был внимателен с нами, порою до… нежности; он не держался «редактором»: не штамповал, не приказывал, - лишь добивался советом того или этого: он обегал со-бойцов, чтобы в личной, порою упорной беседе добиться от нас - того, этого: мягкими просьбами; если ж ему отдавали мы честь пред другими, так это - поволенная нами тактика.
Я оговариваюсь: славолюбие и властолюбие жили в нем; но он диктаторствовал, так сказать, в покоренных провинциях, как-то - в «Кружке», в «Русской мысли»114, в «Эстетике», с кафедры или с эстрады; в своей метрополии, в центре дружеского кружка, он держался, как республиканец с бойцами, которым помог в свое время; мы помнили это: и были верны ему; если же «псами» казались другим, то, - по правде сказать, «пес» всегда симпатичней «осла», добивающего одряхлевшего льва своим черствым копытом; уже с 1907 года такие «ослы» появились.
Мы ж видели роль его - организатора литературы; с 902 года всерьез зазвучала роль эта; так-то я, не сближаясь, скорее отталкиваясь, был им вобран и утилизирован; я не раскаиваюсь: благородно он утилизировал, дав дисциплину рабочую, выправку, стойкость.
О нежной сердечности и не мечтал, одиноко замкнувшись в мирах своих странных, где бред клокотал еще; видя, что Блок, Мережковские перевлекают меня, от меня добивался лишь связи рабочей, которую я потом, разуверившись в Блоке, весьма оценил.
Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе: до всех «стиховедческих» опытов школа была без устава; но списочек слушателей где-то был у него; в нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых.
Кричали: пристрастен-де Брюсов, а так ли? Ошибся ли он - Блока, меня, Садовского, С. М. Соловьева, Волошина в свой список включивши, Койранских же, Стражевых, Рославлевых и бесчисленных Кречетовых зачеркнувши?
Все сплетни о его гнете, давящем таланты, - пустейшая гиль, возведенная на него.
Случалось, что и он ошибался: сперва не занес Ходасевича в список «поэтов»; но вскоре ж ошибку исправил он.
Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым; он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстников; больше сливался тогда он со старшими из «Скорпиона», на почве лишь дела.
Таким был в эпоху начала знакомства со мной.
С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года; с Мережковским - на другой же день. Совпадение встреч - жест; Брюсов меня волновал «только» литературно; а Мережковский - не только; анализ, произведенный Д. С. Мережковским образам Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность: «От слова - к действию, к преображению жизни, сознания!» По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же - дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух обретается в теле, не в вырыве в небо; чиста-де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее; дух-де здоров в Достоевском, а он - эпилептик.
Литература в обоих есть выход из литературы; в обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознанье Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий.
Д. С. Мережковский мирился со всем, но не с этим; «народник», «марксист», ницшеанец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике; Брюсову ж не было места в ней; так что «декаденты», по Мережковскому, - валежник сухой; малой искры достаточно, чтобы они вспыхнули; они - трут, на который должна была пасть искра слов его; вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море: ему ли де не знать «декадентов», когда он и сам - декадент, победивший в себе «декадента».
Д. С. Мережковского не понимали в те годы широкие массы; его понимал Михаил, православный епископ; да мы, «декаденты», читали его. Брюсов, тонкий ценитель «словес», был в те дни почитателем этого стиля - «и только»: о всяком «не только!».
Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал: исцеленье его Мережковским есть «стиль» Мережковского; Брюсов-стилист был не прочь исцелиться для… Гиппиус, чтобы отобрать в «Скорпион» цикл стихов у нее; он ковал ведь железо, пока горячо, для готовимого альманаха и для «Скорпиона»; точно торговец мехами, в Ирбит отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для «Скорпиона» стихи подцепить; подцепив, привозил, точно мех черно-бурой лисицы.
Венец юмористики: Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова: в «завтра»; и даже - значенье расширенного «Скорпиона», который и им служил службу; они были гибкие в смысле устройства своих личных дел; так антидекадент и враг церкви печатался сам в «Скорпионе». Венец юмористики: когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме «беспринципного» Брюсова; он, кажется, прозаведовал… с месяц; и - бросил.
При встречах друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами:
- «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего!» - вопил Мережковский.
- «Прикажите, и - „Скорпион“ к вашим услугам», - изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов.
Заочно ругали друг друга: - «„Новый путь“, Борис Николаевич, заживо сгнил», - с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга: мне.
- «Зиночка сплетничает», - он докладывал.
- «Боря, как можете жить вы в Москве: „Скорпион“ - дух тяжелый, купецкий. Как можете вы с этим Брюсовым ладить?» - кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус.
- «Боря, вам гибель в Москве!» - Мережковский. И я распинался:
- «Да вы не о том», - распинался с отчаяньем я на Литейном.
- «Да вы не о том», - распинался с отчаяньем я в «Скорпионе».
Две эти фигуры, возникнувши в 901 году предо мной, в те же дни, в декабре (один пятого, другой шестого), вдруг быстро приблизились, как бы хватая: Д. С. Мережковский за левую руку и Брюсов - за правую: Брюсов тащил меня в литературу: в «реакцию» по Мережковскому; а Мережковский - в коммуну свою:
- «Боря, бойтесь Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его!»
- «Зина думает…» - скалился Брюсов, глумяся над жалкостями беспринципных «пророков».
Как странно: тащивший «налево» Д. С. Мережковский пугался меня в девятьсот уже пятом как «левого»; «правый» же Брюсов стал не на словах, а на деле: действительно левым.
Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздваиваться меж Д. С. Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции, в идеологии; сложность ее - в иерархии граней; в одной допускались условно и временно ощупи Д. Мережковского; в другой же выметались проблемы формы по Брюсову; центр, ориентирующий обе эти проблемы, - та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, Канта.
Как впоследствии воспринимал Мережковский мои «коррелаты» - не знаю, потому что - молчал лишь: глазами похлопывая.
Блок - тот рисовал на меня безобидные карикатуры.
Не видели стержня теорий моих, моего устремления к «критицизму»; для Брюсова он - игра скепсиса; для Мережковского - моя тоска по действительности.
В. Брюсов играл в философские истины; и на «критические» рассужденья весело подсыпал он софизм; а Мережковский любил философствовать: не от меня - от себя, и тут делался Кифой Мокиевичем; [Кифа Мокиевич - гоголевский тип (см. «Мертвые души»)] употребленье им терминов - просто юмора.
Брюсов и Д. Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка, центральная, моих теорий есть «муха», заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости; эту «муху» стирал Мережковский, старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни в их «общине»; Брюсов доказывал, что эта «муха» препятствует моим стихам.
Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года; к концу 908-го рвались нити, связывавшие с «общиной» Мережковского [Он хотел видеть общиной кружок «близких» ему литераторов], и рвались нити «Весов», иль культурного дела с В. Брюсовым; это я выразил в лекции «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия с дней первых встреч: декабря этак пятого или седьмого; в той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом: у Брюсова и у Мережковского.
Оба - присутствовали на лекции: Мережковский вставал возражать; Брюсов, кажется, нет.
Семь лет ширились ножницы между обоими; силился согласовать себя: с тем и с другим; мои ножницы после сомкнулись: вне Брюсова, вне Мережковского.
Такой методолог сознанию моему импонировал в те годы: Кантом; в мое бытие, омраченное, - уже Брюсов входил; Фохт и Брюсов - тогдашние мои ножницы; неразрешаемая чепуха с Н***, вконец натянуты мои отношения с Брюсовым: этот последний, все более ревнуя меня к Н***, меня ловил у Бальмонтов, в «Весах»: и, раздразнясь афоризмами, делаясь «чертом», он мне намекал, любезнейше, на поединок, возможный меж нами; еще я не знал тогда о его отношениях с Н*** (сама настрачивала его на меня, а потом ужасаясь себе): раз его, возвращался с лекции проф. Брандта, я встретил; он, выпучив губы, сжимая крюкастую палку, сидя в Александровском саду на лавочке и вперяся в красные листья, которые с мерзлой пылью крутились: в косматый туман; увидавши меня, он опять намекнул мне о возможности нам драться; и мне даже показалось, что он поджидал меня здесь.
Скоро он мне стихи посвятил, угрожая в них: «Вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу» [«Бальдеру Локи»].
Через два года это посвящение было снято]. А бумажку со стихами сложил он стрелой, посылая их мне; я ответил: «Моя броня горит пожаром! Копье мне - молнья, солнце - щит… Тебя гроза испепелит».
Скоро встретился я с ним у Бальмонта: он, хмуро ткнув руку, тотчас исчез; Н*** потом мне рассказывала, что он видел сон: его-де протыкаю я шпагой.
Веселенькая, в общем, осень!
«Весы-Скорпион» - близнецы: «Весы» только этап «Скорпиона», в котором «весовцы» - я, Эллис, Борис Садовской, Соловьев (под командою Брюсова) - были в контакте с С. А. Поляковым, Семеновым, Брюсовым и Балтрушайтисом как «скорпионами». До 900 года в Москве совсем не считалися с Ибсеном, Стриндбергом, Уитменом, Гамсуном и Метерлинком. Верхарн пребывал в неизвестности; Чехов считался сомнительным; Горький - предел понимания.
А к десятому году на полках - собранье томов: О. Уайльда, д"Аннунцио, Ибсена, Стриндберга, С. Пшибышевского и Гофмансталя; уже читали Верхарна, Бодлера, Верлена, Ван-Лерберга, Брюсова, Блока, Бальмонта; зачитывались Сологубом; уже заговаривали о Корбьере, Жилкэне, Аркосе, Гурмоне, Ренье, Дюамеле, Стефане Георге и Лилиенкроне; выявились подчеркнутые интересы к поэзии Пушкина, Тютчева и Боратынского; даже Ронсары, Раканы, Малербы, поэты старинные Франции, переживались по-новому вовсе.
Исчезли с полок - Мачтеты, Потапенки, Шеллеры, Альбовы и Станюковичи с Коринфскими, Фругами, Льдовыми; не проливали уже слез над Элизой Ожешко; и не увлекались «характером» Вернера.
Произошел сворот оси!
К исходу столетия сел на обложки печатаемых «дикарей». «Скорпион», хвост задрав предложеньем читать Кнута Гамсуна в тонком, лежавшем в пылях переводе С. А. Полякова («Пана», «Сьесту» - прочли по дешевкам поздней на шесть лет); стервенились на задранный хвост «Скорпиона», протянутый, как указательный палец, к фаланге имен, почитаемых ныне (Уитмен, Верхарн, Дюамель, Гамсун), но неизвестных еще Стороженко (Брандесы потом их представили, в качестве «новых талантов»); пока ж называли К. Гамсуна: «пьяный дикарь» [«Русское слово» в 1900 или 1899 г.].
Надо было б хвалить «Скорпион», что он зорок; а - мстили ему: за свой подтираемый плев; «идиот и дикарь», «не лишенный таланта дикарь», «мощно-дикий талант», - курбет с Гамсуном; то же - с Верхарном, с Аркосом, со Стриндбергом, с роем имен, выдвигаемых с первой страницы «Весов»; сплагиировав вкус, чтобы скрыть плагиаты, плевали теперь на «скорпионов».
О, последующие брани по адресу имажинистов или футуристов - журчание струй! Допотопные старики перемазывались из «Кареева» и «Стороженки» в сплошных «Маяковских», чтоб отмстить нам за то, что мы, а не они подняли на знамя Верхарнов, Уитменов, Гамсунов, которых они оплевали в свое время; надев рубашки ребяческие, голопузые старцы помчались вприпрыжку… за Хлебниковым: «И я тоже!»
Но факт - оставался; а - именно: свороты вкуса сплелись с оплеухой по чьим-то ланитам; был сломан хребет «истин» Пыпина, после чего появилась и бескорыстная критика: просто повидло какое-то приготовлял Айхенвальд; а «Весы», подытожив свою шестилетку, закрылись: весовский товар под полой продавался теперь везде: и на «браво, Верхарн» выходил и раскланивался, прижимая к груди пришивные «весовские» руки, приятный весьма… «силуэт» Айхенвальда.
Такого упорного литературного боя, как бой за решительный переворот в понимании методики стиля с буржуазной прессой, впоследствии не было: были только кокетливые карнавалы: стрелянья… цветами; довоенная пресса, - нахохотавшись над символистами, вдруг проявила сравнительную покладистость по отношению к течениям, из символизма исшедшим.
Нам некогда казалось, что стояла эскадра в девятьсот четвертом году: броненосцы-журналы, газетные крейсера били по юркавшей с минами лодке подводной; вдруг «Русская мысль» подняла белый флаг: «Я сдаюсь»; а на мостик командный взошел В.
Я. Брюсов, доселе - «подводник». «Весы» - упразднились.
Шесть лет при боевых орудиях службу я нес с Садовским, Соловьевым; четыре - с Л. Л. Кобылинским; на капитанском мостике стоял Брюсов; С. А. Поляков - при машинах; друг другу далекие - не расходились мы: самодисциплина. Бранили нас - Андреевы, Бунины, Зайцевы, Дымовы и Арцыбашевы; Блок и Иванов часто покряхтывали на нас, и им влетело - за то, что хотели они царить в те минуты, когда Брюсов, я - лишь трудовую повинность несли.
Коль Иванову льстили «чужие», он - маслился от удовольствия; а коли Брюсову льстили, он - откусывал нос. В «Весах» не было строчки, написанной не специалистами; тут - корифей, тут - статист, тут - в венке, тут - в пылях, с грязной тряпкой; «весовец» - таким был; Брюсов пыль обтирал, как «Бакулин»; З. Гиппиус - как «Крайний»; Борис Садовской - в маске «Птикса», а я был - ряды греческих букв (вплоть до «каппы»), «2 бе», - «Б. Бугаев», «Яновский» и «Спиритус»; благодаря псевдонимам шесть или семь специалистов - казалися роем имен; они давили: зевок, отсебятину, позу, «нутро», штамп, рутину, цель - вовсе не в том, чтобы «перл» показать; цель - тенденция: с «Блоками», «Белыми» и «Сологубами» о «Дюамелях», «Аркосах», «Уитменах» внятно напомнить: «Читайте не Льдова - Языкова, не Баранцевича - Дельвига, коли уже касаться „вчерашнего дня“».
Все здесь делалось быстро, отчетливо, без лишних слов, без дебатов; все - с полунамека, с подмигами: «Вы понимаете сами».
Политика - Брюсова: умниц и спецов собрав, руководствоваться их политикой; Брюсов являлся диктатором - лишь в исполнении техники планов; глупцов - изгонял, а у умниц и сам был готов поучиться, внимательно вслушиваясь в Садовского, в С. М. Соловьева; система такая слагала фалангу: железную, крепкую. Вместо программы - сквозной перемиг: на журфиксе, на улице, при забеганьи друг к другу; «программа», «политика», «тактика», - это бессонные ночи Б. А. Садовского, меня, Соловьева и Эллиса, ночи, просиживаемые в Дедове или в «Дону» (с Соловьевым иль Эллисом), а - не «Весы», не заседания, не постановления.
Не было этих последних.
Заседания шли напряженно: два «лидера», Брюсов и я, проявили предел деликатности, друг друга явно поддерживая против собственных единомышленников; так сложилася партия третья (двух «лидеров»); они - пожар ликвидировали, разделив свои функции (ведал теорией - я, ведал критикой литературного - Брюсов).
Так было в последний год существованья «Весов».
В то далекое время каждый из близких «Весам» был кровно замешан в проведении литературной платформы журнала; таких неизменно близких, на которых рассчитывал Брюсов, была малая горсточка; литераторы и поэты - наперечет; с 1907 года до окончания «Весов» такими были: Брюсов, Балтрушайтис, я, Эллис, Соловьев, Борис Садовской; Поляков - почти не влиял; поддерживая дружбу с жившим за границей Бальмонтом, он встречал оппозицию в оценке Бальмонта у Брюсова, очень критиковавшего все книги Бальмонта после «Только Любовь»; я тоже к Бальмонту относился сдержанно; Эллис - почти враждебно; Бальмонт в ту пору - «почетный» гастролер, а - не близкий сотрудник; такими же гастролерами были Гиппиус, Иванов, Блок, Сологуб; Сологуб давал мало («Весы» мало платили, а он, «корифей» литературы, уже привык к «андреевским» гонорарам); Блок и Иванов косились на «Весы», не прощая нам нашей полемики; Гиппиус изредка гастролировала стихами; лишь месяцев пять она писала часто под псевдонимом Антон Крайний, не потому, что разделяла позицию «Весов» до конца, а потому, что разделяла нашу полемику того времени с Чулковым и В. Ивановым.
С 1907 года ядро близких сотрудников - ничтожно; район обстрела - огромен: все литературные группировки, кроме «весовской»; отсюда многие псевдонимы; каждый из нас имел несколько псевдонимов: Садовской писал под псевдонимом Птикс; Брюсов под псевдонимами - Пентауэр, Бакулин; я писал как Белый, Борис Бугаев, Яновский, Альфа, Бэта, Гамма, Дельта, «2Б», Спиритус и т. д.
Я не намерен теперь защищать ряда эксцессов, допущенных «Весами»; полемика была жестока; Брюсов - ловил с поличным: всех и каждого; Садовской переходил от едкостей к издевательствам, например, - по адресу Бунина; Эллис являл собою подчас истерическую галопаду ругательств с непристойными науськиваниями.
Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и резок; но полемика падает на те года, когда был я морально разбит и лично унижен; и физически даже слаб (последствия сделанной операции); я был в припадке умоисступления, когда и люди казались не тем, что они есть, и дефекты позиций «врагов» разыгрывались в моем воображении почти как полемические подлости по адресу моей личности и личности Брюсова; объяснение моей истерики - личные события жизни уже эпохи 1906–1908 годов; вот эти-то «личные» переживания, неправильно перенесенные на арену борьбы, путали, превращая даже справедливые нападки на враждебные нам течения в недопустимые резкости, обезоруживавшие меня: таковы безобразные мои выходки против Г. И. Чулкова, на которого я проецировал и то, в чем я с ним был не согласен, и то, в чем он не был повинен: нисколько; так стал для меня «Чулков» - символом; полемизировал я не с интересным и безукоризненно честным писателем, а с «мифом», возникшим в моем воображении; меня оправдывает условно только болезнь и те личности, которые встали тогда меж нами и, пользуясь моим состоянием, делали все, чтобы миф о «Чулкове» мне стал реальностью.
Теперь, после стольких раздумий о прошлом, я должен принести извинения перед Г. И. Чулковым и благодарить его за то, что он мне литературно не воздал следуемого.
Но, повторяю, мотив к полемикам - был; и на одном участке полемического фронта «Весы» сыграли нужную роль; они сделали невозможным длить традиции от Стороженок, Алексеев Веселовских и Иванов Ивановых, задушивших нашу молодость; даже старые рутинеры, ругавшие «Весы», стали равняться по ним.
Когда это обнаружилось - «Весы» кончились.
Главная же антиномия была антиномией между личной жизнью и жизнью в идеях; именно в этом злосчастном году рухнула надежда моя гармонизировать свою жизнь; «творец» собственной жизни оказался банкротом в инциденте с Н***, поставившем меня лицом к лицу с Брюсовым, покровителем моих литературных стремлений, наставником в области стиля, идейным союзником на фронте борьбы символистов с академическою рутиной; черная кошка, пробежавшая между нами в 1903–1904 - 1905 годах, разрослась в 1904 году просто в «черную пантеру» какую-то; если принять во внимание, что осенью 1904 года Брюсов меня ревновал к Н***, а в начале 1905 года вызвал на дуэль, то можно себе представить, как чувствовал себя я в «Весах», оставаясь с Брюсовым с глазу на глаз и не глядя ему в глаза; мы оба, как умели, превозмогали себя для общего дела: работы в «Весах», ведь нас крыли в газетах, в журналах, в «Литературно-художественном кружке»; и я должен сказать: мы оба перешагнули через личную вражду, порой даже ненависть - там, где дело касалось одинаково нам дорогой судьбы литературного течения: под флагом символизма; и в дни, когда Брюсов слал мне стихи с угрозой пустить в меня «стрелу», и в дни, когда я ему отвечал стихами со строчками «копье мне - молнья, солнце - щит», и в дни, когда он вызывал меня на дуэль, - со стороны казалось: все символисты - одно, а Белый - верный Личарда своего учителя, Валерия Брюсова.
С Брюсовым дело обстояло тем трудней для меня, что Эллис, возмущенный убийственным разносом его переводов Бодлера, напечатанным в «Весах», грозился при встрече побить Брюсова, а меня упрекал за то, что я допустил выход рецензии Брюсова (увы, - Брюсов был прав); и Эллис, и Брюсов постоянно бывали у меня; и надо было держать ухо востро, чтобы не произошла случайная встреча их у меня и чтобы не случилось чего-нибудь непоправимого.
Снова увиделись мы с Брюсовым в феврале 1905 года, когда я, забывши об Н*** и о нем, переполненный весь впечатленьями от революции, пережитой в Петербурге, от Блоков и Д. Мережковского, вновь появился в Москве; он явился как встрепанный, с молньей в глазах и с неприязнью в надутых губах; с дикой чопорностью сунув пальцы и вычертивши угловатую линию локтем, он бросил на стол корректуры, мои, прося что-то исправить; но видом показывал, что корректуры - предлог; кончив с ними, стоял и молчал, не прощаясь, наставяся лбом на меня, точно бык перед красным, посапывая: бледный, весь в красных угрях.
Вдруг без всякого повода, точно бутылка шампанского пробкою, хлопнул ругательством, - не на меня: на Д. С. Мережковского, зная, что у этого последнего жил и что для внешних я в дружбе с ним; я - оборвал Брюсова; он, отступая шага на два, свой рот разорвал: в потолок: - «Да, но он продавал…» - «что» - опускаю: ужаснейшее оскорбление личности Мережковского; я - так и присел; он, ткнув руку, весьма неприязненно вылетел.
Когда опомнился, - бросился тотчас за стол, написав ему, что я прощаю ему, потому что он «сплетник» известный; ответ его - вызов: его секундант ждет в «Весах» моего.
Я, все взвесивши, понял: Д. С. Мережковский - предлог для дуэли; причина действительная - истерический взрыв, мне неведомый, в Н***; тут же понял я, что «испытует» во мне просто честность; кабы уклонился, он мог бы унизить меня перед Н***: трус, друзей защитить уклонился! Все взвесив, ответил ему, что предлогов действительных нет для дуэли; но, если упорствует он, я, упорствуя в своей защите Д. С, отрицая дуэль, буду драться.
Скоро мы встретились пред типографией: вблизи манежа; из шубы торчал толстый сверток закатанных гранок; склонив набок голову, он воркотал, как пристыженный:
- «Да, хорошо умереть молодым: вы, Борис Николаевич, умерли бы, пока молоды; еще испишетесь: переживете себя… А теперь, - как раз вовремя!»
- «Да не хочу я, В. Я., умирать! Дайте мне хоть два годика жизни!»
- «Ну, ну: поживите себе еще годика два!»
Повалила хлопчатая снежная масса на мех его шубы; из хлопьев блеснул на меня бриллиантовым взглядом: из длинных и черных ресниц; побежал в «Скорпион» - рука в руку; а голову - набок; хлопчатая масса его завалила. Да, жило в нем что-то от мальчика, «Вали»; и это увидел в нем Блок: - «Знаешь, Боря, в нем детское что-то; глаза, - ты вглядись: они - грустные!»
С 905 до 909 года мы, вместе работая, часто встречались и много беседовали: не вдвоем, а втроем, вчетвером: с Соловьевым иль с Эллисом; мы составляли уютную, дружную очень четверку; то время - полемики: бой «Весов» против решительно всех - под командою Брюсова; «вождь» был покладист, любезен, сдавая так часто мне, Эллису знамя «Весов», даже следуя лозунгам нашим. Встречался с нами, любил порезвиться, задористо, молодо, быстро метая свои дружелюбные взоры; но стоило нам с ним остаться вдвоем, - наступало молчанье: тяжелое; мы опускали глаза; тень от «черной пантеры», меж нами возникнувшей некогда, точно мелькала и солнечным днем.
Вышел громкий скандал, от которого лишь пострадал он со Струве; я ж - переборщил в своей долгой злопамятности, лет двенадцать отказываясь от свидания с ним; я не понял, что «инцидент» наш - неразбериха игры, от которой он более пострадал: в своих воспоминаниях о Блоке я изобразил его монстром; тут субъективизм объективно не вскрытой обиды (я с тем же пристрастием, впрочем понятным, приняв во вниманье смерть, переромантизировал Блока).
Брюсов - текучая диалектика лет: противленец, союзник, враг, друг, символист или - кто? Можно ли в двух словах отштамповать этот сложный процесс, протекавший в нем диалектически? Мы, отработавшие вместе с ним в одной комнате шесть почти лет, награжденные определеньем «собаки весовские», можем ли быть вместе с ним взяты в скобки? Одну из «собак» вызывал на дуэль; а другая «собака» гонялася с палкой за ним; и потом, отслужив, повернулась спиною к нему в «Мусагете» (то Эллис).
4. О Дм.МЕРЕЖКОВСКОМ и З.ГИППИУС
Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку; читаю: «Придите: у нас Мережковские». Мережковский по вызову князя С. Н. Трубецкого читал реферат о Толстом; он явился с женой к Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской.
Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский - тогда был в зените: для некоторых он предстал русским Лютером [Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году].
Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть «делом»; а в 1901 году после первых собраний религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах: Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев; у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились общественники, с удовольствием потиравшие руки: - «Да, реформации русской, по-видимому, не избежать».
В «Мире искусства», журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось: «Мережковские, Розанов». И в соловьевской квартире уже с год стоял гул: «Мережковские!» В наши дни невообразимо, как эта «синица» в потугах поджечь океан так могла волновать.
Гиппиус, стихи которой я знал, представляла тоже большой интерес для меня; про нее передавали сплетни; она выступала на вечере, с кисейными крыльями, громко бросая с эстрады:
Мне нужно то, чего нет на свете.
На стихи Блока она реагировала совершенно обратно: через года три; и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, забраковавшим статью.
Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке [Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще; был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли].
Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь - одна: как жизнь - одна!
В ее чтеньи звучала интимность; читала же - тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, - уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где - задумчиво, строго.
То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру, - но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет, - не пленяла; расположила же - розовая и робевшая «девочка».
С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.
Гиппиус в тонкостях мыслей и чувств была на двадцать пять голов его выше; она отдала свою жизнь, свой талант, свой досуг, чтоб возиться с хозяйствами «всеевропейского» имени; она - работница с грязною тряпкой в руках; Мережковский питался ее игрой мысли; во многом он вытяжка мыслей З. Н.; порошки ему делали: «зинаидин» (нечто вроде «фитина»); «коммуна» позднее мне виделась лабораторией газов, которыми «тещин язык» [Детская игрушка, продававшаяся на Вербе в Москве] верещал: на весь мир!
Не случайно, что я и Д. С. друг на друга глазами лишь хлопали; и не случайно, что с З. Н. я ночи свои проводил в неотрывных беседах; в те годы она - конфидентка, мне нужная; еще не видел я тени ее, ставшей ею впоследствии, когда она - стала тень; это - сплетница, выросшая в клеветницу и кляузницу! Мотив жизни в сем «логове» - не только Гиппиус; Блоки, с которыми виделся я ежедневно («коммуна» моя номер два); Мережковские грызли меня за мое убеганье в казарму: что общего?
5. О.К.БАЛЬМОНТЕ
В марте-апреле 1903 года я знакомлюсь с Бальмонтом, которого томиками «Тишина» и «В безбрежности» я увлекался еще гимназистом, в период, когда говорили мне: Гейне, Жуковский, Верлен, Метерлинк и художник Берн-Джонс: перепевные строчки Бальмонта будили «Эолову арфу» Жуковского; и - символизм в них прокладывал путь; они - синтез романтики с новыми веяниями; среди нас был Бальмонт - академик, с которым считалися старцы; он им отвечал пессимизмом, в котором тонул прошлый век: что-то от Шопенгауэра, от Левитана; еще не расслышался весь эклектизм его ритмов: Верлен плюс Жуковский, деленные на два, иль - лебеди, чайки, туман, красный месяц и дева какая-нибудь.
Меня удручили уже «Горящие здания»; портился ритм: скрежетала строка; неподмазанное колесо; скрежетал «тигр»; и это досадовало: кто-то с севера, попав в Испанию, в плащ завернувшись, напяливши шляпу с полями, выходит… из бара: скрежещет зубами, что он подерется с быком; зовут спать, - лезет в бой! Подражание Брюсову, собственный голос сорвавшее!
«Будем как Солнце» - нас книга дразнила; в ней - блеск овладенья приемами, краски, эффекты; и - ритм; все же «испанец», срывающий платья, казался подделкой под собственный замысел: под золотистый тон солнца.
Бальмонт, поэт с песенкой, в «Будем как Солнце» надел хвост павлина; иль: он - Мендельсон, конкурирующий с… Леонкавалло: романтик, ныряющий в стиль «декаданс», чтобы стать средь новейших. Плакат же - «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…», «Я вижу Толедо, я вижу Мадрид… О, белая Леда, твой блеск и победа…». Мадрид и Толедо - Бедекер; а белая Леда при чем? Для Толедо? Для - тлд-лрд-бл-пбд? Но у Пушкина, у Боратынского, у Блока - утончена аллитерация; здесь она - перстни на пальцах.
Чудесные строчки есть в «Только любовь»; но все лучшее, как попурри из… Бальмонта; а далее - серия книг, утопляющих жемчуг искусства в воде.
К. Д. Бальмонт - гений импровизации; ловишь чудесные строчки; но лучше быть третьеразрядным талантом, чем гением этого рода.
А в дни моей встречи с Бальмонтом он переходил Рубикон, отделяющий импровизатора в нем от поэта; конечно, в своем новом даре рекорды он бил; и мы - рты разевали: гром поз, скрежет шпор, залом шляпы с пером… дамским, страусовым; он свой дар посыпал эрудицией; мог с Веселовскими, со Стороженками преуспевать в исчислении, что, у кого, как и сколько раз сказано: «Шелли сказал о цветке - то и то-то… Берне сказал…» Стороженко склонял свою лысую голову перед владеньем источниками.
До знакомства я выслушал рой анекдотов, восторженно переданных: Бальмонт - «гений»-де; «скорпионы» считали его своим «батькой», отметив заслуги; но знали, что «батькинская» булава есть декорум уже, потому что действительный «батька» есть Брюсов; Бальмонт, как прощальное солнце, сиял с горизонта; центр культа его - утонченно-никчемные барыньки, бледные девы; стыдясь социального происхождения (из кулаков), прикрывались Бальмонтом, как веером: папеньки не торговали-де ситцами, коли - в «испанском» мы кружеве; К. Д. Бальмонт выступал, весь обвешанный дамами, точно бухарец, надевший двенадцать халатов: халат на халат.
Бальмонт-личность во мне возбуждал любопытство.
Мне трудно делиться своим впечатленьем от встречи с Бальмонтом; она - эпизод, не волнующий, не зацепившийся, не изменивший меня, не вошедший почти в биографию: просто рои эпизодов, которые перечислять бы не стоило; К. Д. Бальмонт - вне комической, трагикомической ноты и не описуем.
Меж мной и Бальмонтом бывал разговор поневоле; он был обусловлен лишь встречами в общей среде и в редакциях, где мы работали; был он с натугой; я силился чтить и визит наносить, терпеливо выслушивая поэтические перечисления - что, у кого, где, как сказано: про перламутрину, про лепесток, про улитку; Н. И. Стороженке весьма назидательно выслушать о Руставели и Шелли; я был - не словесник: весьма назидательный смысл разговоров с Бальмонтом утрачивался; оставалась натуга - в прекрасных намерениях: мне - не задеть чем-нибудь; а ему - быть внимательным, благожелательным к младшему брату, что он выполнял с дружелюбием искренним; я - с трудолюбием искренним чтил; а вне «чтений» - две жизни, две разнопоставленные эрудиции, разнопоставленные интеллекты глядели, минуя друг друга.
И стало быть: яркое все в этих встречах - сплошной эпизод, каламбур.
Я увидел Бальмонта у Брюсова: из-за голов с любопытством уставился очень невзрачного вида, с худым бледно-серым лицом, с рыже-красной бородкой, с такими же подстриженными волосами мужчина, - весь в сером; в петлице - цветок; сухопарый; походка с прихромом; прижатый, с ноздрями раздутыми, маленький носик: с краснеющим кончиком; в светлых ресницах - прищуренные, каре-красные глазки; безбровый, большой очень лоб; и пенснэ золотое; движения стянуты в позу: надуто-нестрашным надменством; весь вытянут: в ветер, на цыпочках, с вынюхом (насморк схватил); смотрит - кончиком красной бородки, не глазками он, - на живот, не в глаза.
Так поглядывал, чванно процеживая сквозь соломинку то, что ему подавали другие; и в нос цедил фразы иль, точно плевок, их выбрасывал, квакая как-то, с прихрапом обиженным: взглядывал, точно хватаясь за шпагу, не веря в слова гениальные, собственные, собираяся их доказать поединком: на жизнь и на смерть.
Что-то детское, доброе - в очень растерянном виде: и - что-то раздавленное.
Лоб - умный.
Не помню высказываний гениального «батьки»: говорил он, как будто поплевывал: поэтичными семечками; и читал как плевками; был странный напев, но как смазанный, - грустно-надменный, скучающе-дерзкий, порой озаряемый пламенем: страстных восторгов!
В том, что примкнул к декадентам, был подвиг; они ж его портили, уничтожая романтика и заставляя огнем и мечом пробивать: пути новые; меч его сломанный - просто картон; хромота - от паденья с ходуль, на которых ходить не умел этот только капризный ребенок, себе зажигающий солнце - бумажный, китайский фонарик - средь коперниканских пустот.
Первый вечер с Бальмонтом отметился только знакомством с… Волошиным. Врезалась в память с ним встреча у «грифов» - дней эдак чрез пять.
Пьянел он от двух с половиною рюмок; и начинал развивать вслед за этим мечты, неудобные очень хозяйке (вино - выражение боли); он много работал, прочитывая библиотеки, переводя и слагая за книгою книгу; впав в мрачность, из дому бежавши, прихрамывающей походкой врывался в передние добрых знакомых; прижав свою серую, несколько декоративную шляпу к груди, - красноносый и золотоглазый (с восторженным вызовом уподобленьями сыпаться), с серым мешком холстяным: под рукой; вынимались бутылки из недр мешка; и хозяйка шептала: «Не знаю, что делать с Бальмонтом».
Мы тоже - не знали.
Он - бледный, восторженный, золотоглазый, потребовал, чтоб лепестками - не фразами - мы обсыпались втроем: он желал искупаться в струе лепестков, потому чт0-«поэт» вызывает «поэта» на афористическое состязание; переполнял вином мой бокал (его Нине Ивановне передавал я под скатертью); и, как рубин, - пылал носик.
- «О, как я устала с ним: ведь уже четыре часа это длится, - шептала Н. И. - Где Сережа?»
«Сережа» - «поэт», Сергей Кречетов, - тут же вошел, с адвокатским портфелем; и слушал, как золотоглавый и рубинноносый, но бледный как смерть Константин Дмитриевич нам объяснял, что готов он творить лепестки, так как он - «лепесточек»: во всем и всегда; и кто это оспаривать будет, того - вызывает на бой; я и Кречетов, взявши под руки поэта, увели в кабинет, на диван уложили и уговаривали предать члены покою, отдаться полету на облаке; и опустили уже обе шторы; но Кречетов имел бестактность ему указать: не застегнута пуговица; он, оскорбленный таким прозаизмом, с растерянным видом испанца Пизарро, желающего развалить царство инков, но в силах весьма уверенный, вздернув бородку в нос Кречетову, пальцем ткнул в… незастегнутое это место:
- «Сергей, - застегните!»
Его б по плечу потрепать, опрокинуть (уснул бы); «Сергей» же, приняв оскорбленную позу берлинского распорядителя бара, но с «тремоло» уже прославленного адвоката, надменно оправил свой галстук и вздернул пенснэ: - «Дорогой мой, я этого места не стану застегивать вам».
И Бальмонт - не перечил: заснул; но едва мы на цыпочках вышли, он заскрежетал так, что Нина Ивановна уши заткнула: такой дикой мукой звучал этот скрежет; и мы за стеною курили, глаза опустив; дверь раскрылась: Бальмонт - застегнувшийся, в пледе, которым накрыли его, молниеносно пришедший в сознание, робкий, с пленительно-грустной, с пленительно-детской улыбкой (пьянел и трезвел - во мгновение ока); он начал с собою самим, но для нас говорить: что-то нежное, великолепное и беспредметно-туманное; мы, обступив, его слушали; то, что сказал, было лучше всего им написанного, но слова утекали из памяти, точно вода сквозь ладони.
От дня, проведенного с ним, мне остался Бальмонт ускользнувший и незаписуемый; а записуемая загогулина (вплоть до штанов) жить осталась как нечто трагическое: не каламбур это вовсе.
Мне первая встреча с Бальмонтом - вторая.
Четыре часа; «файф-о-клок» у Бальмонта, в Толстовском; он в чванной натуге сидел за столом, уважаемым «Константин Дмитриевичем» - вовсе не Вайем, не богом индусского ветра (он так называл себя), очень маститым историком литературы, заткнувшим за пояс Н. И. Стороженко; и - требовал, чтобы стояли на уровне новых, ученейших данных о Шелли и о… мексиканском орнаменте; он принимал, точно лорд; вздергом красной бородки на кресло показывал: - «Прш… едите…» - т. е. «прошу, садитесь». Садился над кэксом, зажав свои губы и ноздри раздув, вылепетывая - по-английски - каталоги книг об Уайльде, о Стриндберге, Эччегарайе: - «Кквы не чтл», - или: «как, вы не читали?»
И тут, захватясь за пененэ, им прицепленное к пиджаку, нацепив его с гордым закидом, легчайше слетал - сухопарый, с рукою прижатой к груди; пролетал к книжной полке, выщипывал английский том в переплетище, бухал им в стол, точно по голове изумленного приват-доцента: - «Прочтите, здесь - нвы… днн!..» - иль: «новые данные».
Не ограничивался своей сферой: поэзией; его интересы - Халдея, Элам248, Атлантида, Египет, Япония, Индия; то читал Родэ, то томы маститого Дейссена: помнил лишь то, что касалось «поэта».
- «Опять библиотеку, - Брюсов разводит руками, - Бальмонт прочел: но - как с гуся вода».
Точно ветер, - Вай, - каждый кусток овевающий, чтобы провеяться далее; так - Вай, Бальмонт: пролетал бескорыстно над книжными полками, знаний не утилизируя, как утилизировал Мережковский, который, сегодня узнавши, что есть «пурпуриссима», - завтра же всадит в роман; эрудиция К. Д. Бальмонта раз во сто превышала ее показ; набор собственных слов, неудобочитаемых, в книге о Мексике - занавес над перечитанным трудолюбиво; вдруг он зачитал - по ботанике, минералогии, химии, с остервененьем! Что ж вышло? Только - строка: «Яйцевидные атомы мчатся»; как рои лепестков, отлетел рои томов: по ботанике, минералогии, химии.
Я в нем ценил: любознательность и бескорыстнейшее, перманентное чтение; что эрудит, - это ясно; но надо сказать, что - не только; пылала любовь к просвещению в нем: в этом смысле он был гуманистом - не по Стороженке: а по Петрарке!
В естественном он «ореоле» почтенья сидел средь юнцов, не уча, лишь бросая: «Мн… нрвтс» иль «не нравтс», то есть «нравится» или «не нравится»; анализировать стих - не хотел, не умел.
Н. И. Стороженки, где - проще, сердечнее (хоть пусто), где и К. Д. бывал; Стороженко в ту весну отрезал раз с добросердечием мне:
- «Константин Дмитриевич - жив?» - «Что?» - «Извозчик мой вчера - едва его не раздавил. Он был пьян».
Порой мне казалось: Бальмонт «файф-о-клока» такая же поза дитяти, как гордый испанец, стоящий пред лошадью Н. Стороженки во мраке Собачьей площадки, в надежде, что лошадь, узнавши Бальмонта по свету павлиньему, им излучаемому, шарахнется с пути, потому что я слышал рассказ: кто-то видел его вылезающим из сиденья на козлы извозчичьи с томом Бальмонта в руках и сующего том под сосули извозчичьих заиндевевших усов: - «Я, Бальмонт, - написал это вот!»
Раз он в деревне у С. Полякова полез на сосну: прочитать всем ветрам лепестковый свой стих; закарабкался он до вершины; вдруг, странно вцепившися в ствол, он повис, неподвижно, взывая о помощи, перепугавшись высот; за ним лазили; едва спустили: с опасностью для жизни. Однажды, взволнованный отблеском месяца в пенной волне, предложил он за месяцем ринуться в волны; и подал пример: шел - по щиколотку, шел - по колено, по грудь, шел - по горло, - в пальто, в серой шляпе и с тростью; и звали, и звали, пугаяся; и он вернулся: без месяца.
Е. А., супруга, уехала раз в Петербург; он остался в квартире один; кто-то едет и - видит: багровы все окна в квартире Бальмонтов: звонились, звонились, звонились; не отпер - никто; и вдруг - отперли: копотей - черные массы;; сквозь них - бьют вулканы кровавые из ряда ламп с фитилями, отчаянно вывернутыми; среди черно-багровых Гоморр - очертание черного мужа, Бальмонта, устроившего Мартинику не то оттого, что он выпил, не то от каприза, мгновенного и поэтического.
Я бы мог без конца приводить факты этого рода, весьма обыденные в жизни Бальмонта; весьма удивительно: не горел, не тонул и с сосны не низвергся; начал же эту карьеру скачком из окна в тротуарные камни с четвертого он этажа под влиянием жизненных трудностей; переломал руки, ноги; и начал стихи писать (от падения лишь хромота оставалась); наверное, Вай, или ветер, которого чествовал оригинальною строчкою - «ветер, ветер, ветер, ветер», к нему подлетевши, его, как дитя, опустил.
Из окна сумел выскочить, - не из себя; и томился, зашитый в мешок своей личности; и - сумасшествовал, переводя томы Шелли, уписывая библиотеки, плавая в море романов и в море вина утопая, чтобы, вынырнувши, появиться средь нас, - поэтичен, свеж, радостен: десятижильный и неизменяемый!
Я стал. - седым, лысым; Блок, В. Я. Брюсов - сгорели; согнулся - Иванов; Волошина и Сологуба не стало; Бальмонт в 921 году, как и в первом, лишь кудри волнистые вырастил: в них - ни сединки; с кошелкой в руке и в пенснэ средь торговок Смоленского рынка нащупывал репку себе: «Покупайте!» - «Я, - посмотрел с видом гранда, - себе покупаю морковь!»
Раз забежал я к нему; очень усталый, в подушках лежал он: «Говорите, сидите: что делали вы? О чем думали?» - квакало еле; я что-то свое, философское, начал; раздался отчаянный храп; я хотел удалиться; Бальмонт, точно встрепанный, переконфуженно квакал: «Я - слушаю вас: продолжайте!» Я рот - раскрыл; и - снова всхрап; я - на цыпочках, к двери. Он вскочил, посмотрел укоризненным, очень насупленным взглядом: «Я этого вам - не прощу!»
Мог быть мстительным; Брюсов рассказывал: - «Раз он таскал глухой ночью меня; он был пьян; я боялся: его пришибут, переедут; хотел от меня он отделаться: стал оскорблять; зная эту уловку его, - я молчал; не поверите, - он проявил изумительный дар в оскорблении, так что к исходу второго, наверное, часа я… - Брюсов потупился, - я развернулся и… и… оскорбил его действием; он перевернулся и бросил меня».
- «Ну, и…?»
- «На другой день - подходит ко мне и протягивает незлобиво мне руку!»
И Брюсов вздохнул:
- «Добр!»
И я испытал на себе незлопамятную доброту в инцидентах, меж нами случавшихся (без инцидентов - нельзя с ним).
Терпеть он не мог Мережковского; Д. Мережковский выпыживал из себя свои бредни о будущем; и о далеком прошлом тосковал романтик Бальмонт. Мережковский его в те года презирал. Я однажды застал их сидящими друг против друга; Бальмонт, оскорбленный на хмурь, изливаемую на него Мережковским, славил «поэта» вообще: назло Мережковскому, вне религии поэзию отрицавшему. Очень напыщенно бросил он, разумея «поэта»:
Как ветер, песнь его свободна!
И Мережковский с ленивым презрением - осклабился; не поворачивая головы на Бальмонта, он бросил в ответ:
Зато, как ветер, и бесплодна!
Бальмонт, прибежавши домой, написал стихотворное послание, посвященное Мережковским; там есть строфа:
Вы разделяете, сливаете,
Не доходя до бытия.
О, никогда вы не узнаете,
Как безраздельно целен я.
Но не «нашинской» цельностью целен он был.
Точно с планеты Венеры на землю упав, развивал жизнь Венеры, земле вовсе чуждой, обвив себя предохранительным коконом. Этот кокон - идеализация поэта - рыцаря; Бальмонт в коконе своем опочил. Он летал над землею в своем импровизированном пузыре, точно в мыльном.
6. О Вяч. ИВАНОВЕ
- «Иванов сказал!» - «Был Иванов!» - «Иванов сидел». - «Боря, - знаешь: Иванов приехал: он - рыжий, с прыщом на носу; он с тобой ищет встречи, расспрашивает; трудно в нем разобраться: себе на уме иль - чудак!..» - «Как, с Ивановым вы не знакомы?» - «А мы тут с Ивановым!..»
Словом: Иванов, Иванов, Иванов, Иванов! Когда я вернулся в Москву, мне казалось: прошло десять лет; уезжал я зимою; приехал: в разгаре весны; большой благовест, Большой Иван, разговоры упорные - о Вячеславе Иванове: как он умен, как мудрен, как напорист, как витиеват, как широк, как младенчески добр, как рассеян, какая лиса!
Все то - в лоб: в «Скорпионе», у нас, у Бальмонтов; и хор «аргонавтов» подревывал - голосом Эртеля: - «Мы с Вячеславом Ивановым - гы - за - гога», - как недавно еще «за гога»: с А. А. Блоком!
Шумел Репетилов: вовсю!
В чем же дело? Где Брюсов? Бальмонт? Белый? Блок? Нет их! Только - Иванов, Иванов, Иванов!
Бегу я к Сереже; Сережа, поправившийся от скарлатины, громким хохотом не то всерьез, не то в шутку, не то - перепуганный, не то - плененный Ивановым, пойманный в противоречии, руки разводит, пытаясь меня посвятить в то, что произошло: в десять дней: - «Понимаешь, начитанность - невероятнейшая; но безвкусица - невероятнейшая; что-то вроде Зелинского, пляшущего „козловака“: с юнцами; Сергей Алексеевич, „Гриф“, чуть не в обморок падает; и признается: „Я - не понимаю: ни слова!“ Я должен сказать: ни Сабашниковым, ни „грифятам“ понять нельзя эту лабораторию филологических опытов; в ней - и раскопки микенских культур, и ученейшая эпиграфика; все то поется в нос, точно скрипичным смычком с петушиным привзвизгом под ухо мадам Балтрушайтис иль - Нине Ивановне: с томны-ми вздохами, с нежными взглядами зорких зеленых глаз рыси; и - ты понимаешь? А „грифы“ бегут от него; он - вдогонку; понятно: невежды же; ну, „скорпионы“ с серьезным почтением слушают, - не понимая; Валерий же Яковлевич, сложив руки на грудь, надзирателем классным нам в уши воркочет: „Такой поэт - нужен нам“.
Слушай-ка: я - написал!»
С громким хохотом шарж свой прочел, где описано: у генерала Каменского резво танцуют арсеньевские гимназисточки и поливановцы; в залу врывается Брюсов, влача, как слепого Эдипа, рассеянного Вячеслава Иванова; и всех объемлет - священнейший трепет; а Брюсов, показывая на «Эдипа» египетским жестом, кричит на юнцов:
Такой поэт - нам нужен:
Он для других - пример!..
Он - лучше многих дюжин
Изысканных гетер!
Не прошло полусуток с минуты, как я соскочил на перрон, а уже обалдел: ушат вылили на голову; об Иванове слышал от Брюсова, «Кормчие звезды» [Первая книга стихов Вячеслава Иванова] открывшего и мне показывавшего на тяжелые, точно булыжники, строчки; В. Я., побывавши в Париже, вернулся смятенный от встречи с Ивановым, преподавателем Вольного университета М. М. Ковалевского, курсы читавшим с терпеньем, готовясь подолгу к ним; с курсов - бежали; Иванов же не унывал; десять лет он до этого гнулся в архивах швейцарских музеев, таяся от родственников мужа первого первой жены, - той, с которой бежал из России: зажить в одиночестве средь привидений античного мира - Терпандров, Алкеев, Сафо, Архилохов; до этого он обучался у Моммсена, преодолевши историю; так он латынью владел, что свою диссертацию он написал на изящной старинной латыни, и, приведя в изумление немцев, нырнул в катакомбу, где он все читал Роде, Лобеков, Шлиманов, Фразеров и Узенеров, нарыл свои данные, заново строящие положения Ницше-филолога; то, что у Ницше есть миф, объясняющий музыку Вагнера и осуждающий каннибализм древних дионисических культов, то В. И. Ивановым вновь воскрешалось: на данных науки; и главное: жуткие, тысячелетние культы сей очень ученый, рассеянный муж, спотыкаясь о тысячелетья, привел за собою в Париж; вскружил голову будущему профессору Ященке, нескольким очень ученым доцентам (и - Брюсову), он вместе с пылью, Л. Д. Аннибал, своей первой женой, ее шляпной картонкой, в Москву притащил: и показывал в «грифской» гостиной; и не понимали, кто он: архивариус, школьный учитель из Гофмана, век просидевший в немецкой провинции с кружкою пива в руках над грамматикой, или романтик, доплетшийся кое-как до революции 48-го года и чудом ее переживший при помощи разных камфар с нафталинами, иль мистагог, в чемоданчике вместе со шляпой Л. Д. Аннибал уложивший и культ элевзинской мистерии, чтоб здесь, - на Арбате, Пречистенке, Знаменке, - Нину Ивановну, Кречетова, меня, Эртеля, Брюсова, Батюшкова и Койранских собрав, нас заставить водить хороводы под звуки симфоний Бетховена, возгласом громким гнусавя, лоснящийся выдвинув нос: - «Конгс ом паке!» [Таинственный возглас иерофанта из элевзинской мистерии]
Бальмонт - менестрель запевающий; Брюсов - глаголящий завоеватель; взывающий - Блок; Мережковский, Д. С., - Аввакумик, в салоне своем вопиющий. Иванов как бы собирался: глаголить, вопить, петь, взывать; но пока еще был не глагол: разве филологический корень; не пел, а гнусавил; покрикивал, взвизгивая, с неужасным притопом, а не вопиял; не взывал, - придыхал [Читатель на этот раз, надеюсь, поймет меня: «поюще, вопиюще, взывающе и глаголяще» взято вполне в ироническом смысле в отношении к Иванову].
Блок пугался, узнав, что В. И. пламенеет попасть к Блокам в дом, покрывался от нетерпения красными пятнами и припадая к плечу моему головой златорунной:
- «Борис, отвези меня к Блокам!»
- «Нет, Боря, - не надо: боюсь! Он - профессор; мы с Любой совсем растеряемся с ним!»
Вячеслав оказал просто невероятную чуткость к поэзии Блока, разрушив мой миф о себе: не поэт, - теоретик; я сватал Иванова с Блоком; сама Любовь Дмитриевна помогала мне в этом; стремяся на сцену, она откликалась на мысли о новом театре мистерий, на игры в театр без подмостков, на импровизации выспреннего «феоретика»; к этому времени ветхопрофессорский лик перегримировав под персону из «страсти Христовы», протей Вячеслав собирался створить свою «башню» в Обераммергау [Местечко в Баварии, где разыгрываются старинные мистерии] какое-то (с примесью критских обрядов); я не разглядел, что стремление к новому быту в нем - вздерг; через год преодолеватели «только искусства» явили гримасу подмостков.
Но в 905 я сам способствовал встрече Иванова с Блоком, в ней видя начало отбора людей в коллектив; В. И. Иванов Чулкова привлек; Чулков влек Мейерхольда и Мейера; Блок - Городецкого; и - что-то лопнуло меж символистами, когда Чулков на газетах и на альманашиках «се человек» повез, между тем как В. Брюсов скомандовал: «Трапы поднять!
Символистам быть только в „Весах“!»
«Башня» висела с Таврической над Государственной думою; Недоброво, друг Иванова, рядом жил; в том же подъезде (но первый этаж) проживал генерал Куропаткин; и где-то высоко жил Гессен, философ, сын Гессена.
Мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях «логова»: сам Вячеслав, М. Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С. К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузмин проживал; у него ночевали «свои»: Гумилев, живший в Царском; и здесь приночевывали: А. Н. Чеботаревская, Минцлова; я, Степпун, Метнер, Нилендер в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям «Вячеславом Великолепным»: Шестов так назвал его.
Чай подавался не ранее полночи; до - разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, совет Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Аггеев, Юрий Верховский, Д. В. Философов, С. П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух - не двухлапый, а четырехлапый, иль Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железною необходимостью, как восходящее солнце: из дня в день.
К двум исчезают «чужие»; Иванов, сутулясь в накидке, став очень уютным, лукавым, с потиром своих зябких рук, перетрясывает золотою копною, упавшей на плечи; он в нос поет:- «Ну, Гоголек, - начинай-ка московскую хронику!» Звал он меня «Гогольком»; а «московская хроника» - воспоминания старого времени: о Стороженке, Ключевском, Буслаеве, Юрьеве; я, сев на ковер, на подушку, калачиком ноги, бывало, зажариваю - за гротеском гротеск; он с певучим, как скрипка, заливистым плачем катается передо мной на диване; «московскою хроникою» моею питался он ежевечерне, пригубливая из стакана винцо; и покрикивал мне: «Да ты - Гоголь!» Являлся второй самовар: часа в три; и тогда к Кузмину:
- «Вы, Михаил Алексеевич, - спойте-ка!»
М. А. Кузмин - за рояль: петь стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, - хриплым, надтреснутым голосом, а выходило чудесно.
Часов эдак в пять Вячеслав ведет Минцлову или меня в кабинетик, где нас исповедует, где проповедует о символизме, о судьбах России часов до семи, до восьми; а потом, оборвав свою исповедь, будит Замятину, где-нибудь здесь прикорнувшую, - слабый, прищурый, сутулый: - «Нельзя ли яишенки, Марья Михайловна?»
Так что к восьми расходились.
И так - день за днем; попадая на «башню» - дня на три, живал до пяти недель; яркая, но сумасшедшая жизнь колебала устои времен; а хозяин, придравшись к любому предлогу, вколачивал принцип Эйнштейна: ни утра, ни ночи, ни дня; день - единый; глядишь, - прошел месяц уже.
Утро, - правильней - день: вставал в час; попадал к самовару, в столовую, дальнюю, около логовища Кузмина; Кузмин в русской рубахе без пояса гнется, бывало, над рукописью под парком самовара; увидев меня, наливает мне чай, занимает меня разговором, с раскуром: уютный, чернявый, морщавый, домашний и лысенький; чуть шепелявит; сидит, вдруг пройдется; и - сядет: «здесь» - очень простой; в «Аполлоне» - далекий, враждебный, подтянутый и элегантный; он - антагонист символистам; на «башне» влетало ему от Иванова; этот последний привяжется: ходит, журит, угрожает, притоптывает, издевается над «Аполлоном»; Кузмин просто ангел терпенья, моргает, покуривает, шепелявит: «Да что вы, да нет!» А потом тихомолком уйдет в «Аполлон»: строчит колкость по нашему адресу; и - неприятный «сюрприз»!
И - разносы опять. Вячеслав любил шуточные поединки, стравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова.
Мы распивали вино.
Вячеслав раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: «Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…» С шутки начав, предложил Гумилеву я создать «адамизм»; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово «акмэ», острие: «Вы, Адамы, должны быть заостренными». Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив нога на ногу: - «Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию - против себя: покажу уже вам „акмеизм“!»
Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма.
Иванов трепал Гумилева; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; все-таки он - удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!
Из частых на «башне» - запомнились: Е. В. Аничков, профессор и критик, Тамамшева (эс-де), Беляевские, устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекциями с тарараканьем, Столпнер, С. П. Каблуков, математик-учитель и религиозник, Протейкинский, Бородаевский, Н. Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Ремизов, Юрий Верховский, Пяст, С. Городецкий, священник Аггеев; являлися многие: Лосский, Бердяев, Булгаков, писатель Чапыгин, Шестов, Сюннерберг, Пимен Карпов, поэты, сектанты, философы, богоискатели, корреспонденты; Иванов-Разумник впервые мне встретился здесь.
7. О Ф.СОЛОГУБЕ
В Сологубе меня поражала маститая монументальность; в словесности его поражали сухость и лапидарность, отделявшие его от других модернистов; Танеев ходил среди ему современных Джаншиевых так точно, как Сологуб среди нас; Джаншиевы, Боборыкины, Гольцевы чтили Танеева, но разводили руками; и посмеивались: «Владимир Иваныч - чудак».
Символисты, к которым Сологуб сам причислил себя, относились с почтением к более их зрелому и казавшемуся старцем писателю; но покашивались на него с опаскою: «Поди-ка к Федору Кузьмичу: влетит от него!»
Федор Кузьмич был упорен и тверд, как железо: стоял на своем.
В 905 году он очень ярко откликнулся на расстрел рабочих; его жалящие пародии на духовенство и власть были широко распространены в Петербурге: без подписи, разумеется.
Стоят три фонаря - для вешанья трех лиц: Середний - для царя, а сбоку - для цариц.
Был обидчив; я попал с ним в историю, в шуточном тоне сказавши о нем, будто он «Далай-лама» из города провинциального, но подчеркнув, что писатель - крупный; он тотчас прислал свой отказ от «Весов»; я писал, что в таком случае и я ухожу из «Весов», чтобы мое присутствие в журнале не мешало ему числиться сотрудником; и он сменил гнев на милость.
Андреев, Куприн, Горький и Сологуб стали одно время четверкой наиболее знаменитых писателей; четверку эту провозгласила критика 1908–1910 годов; и гонорар, и пришедшая поздно известность пьянили «почтенного старца», который, став юношей, внезапно развеселился; и даже - обрился; и в новой квартире, обставленной пышно, похаживал в синенькой чистенькой парочке, ручками в брючки со штрипками; в пестром носке; он игриво цепочкой бренчал; и таким круглоголовым счастливцем встречал в светлой зале гостей; но почему-то тогда именно показался «Тетерькиным» (я любил шутливые клички); барышни от мелопластики щебетали роем вокруг новой знаменитости; он, в позе «Весны» Боттичелли, показывал самодовольную шишку; и все лепетали: - «Богато и пышно!»
Он же в нос нам затеивал при всех веселую возню с не юной женою, принимаясь лукавым котенком барахтаться с нею, отчего делалось как-то неловко.
Он - стал вдруг необычайно общественен: вылез из норы; его выбирали третейским судьею в спорах; резолюции «судьи», строгие и формально справедливые, передавалися шепотом: - «Федор Кузьмич полагает».
- «Третейский суд постановил».
А позднее еще, очень право настроенный, он произнес приговор: А. А. Блоку, Иванову-Разумнику, «Скифам» и мне в такой форме, что я положил разорвать с ним всякое знакомство; раз, встретясь с ним в «Тео», я сознательно не подошел под поклон; он моргал изумленно; я видел растерянный голубой, ставший детским, расширенный его глаз, на меня устремленный, как бы говорящий:- «Чего ты обиделся?» Я спину подставил ему.
Он ценил иногда резкость по отношению к себе; кроме того: он - менялся; ставши «лояльным», он работал давно уже в Наркомпросе; испугал его мифический «инженер» или воображенный, всемогущий и деспотический, владеющий тайнами техники; он стал проповедовать пришествие в мир своего мифического «инженера-антихриста»: к концу двадцатого века: - «Мы все попадем в его лапы!»
Он стал появляться на лекциях, мною читаемых: сиживал где-то вдали; и потом подходил церемонно, немного сконфуженно, с традиционным поклоном, с грудным придыханием: - «Милости просим ко мне!»
После трагической кончины жены он, бобыль бобылем, - внушал жалость: сперва погибла в Неве его жена, Анастасия Ник. Чеботаревская; потом бросилась в Москву-реку сестра жены, Александра Ник. Чеботаревская; причина самоубийства обеих на почве психического заболевания. Этот крепкий старик вынес много страданья; он жил одиноко, себя взявши в руки; ствердяся, сколько мог, он ушел с головою в дела Союза ленинградских писателей как председатель его: хлопотал, председательствовал, поучал, до самой смерти…
Он справлял юбилей.
Я спешил в Ленинград, отчасти и для того, чтобы приветствовать его от «В.Ф.А.», иль «Вольфилы» [ «Вольной философской ассоциации», существовавшей с 1919 до 1925 г.], а также и от русских поэтов; во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг, пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и - облобызал меня.
За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: - «Ой, сделали больно, - и палец тряс, сморщась, - ну можно ли эдаким способом пальцы сжимать?»
И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал.
Лишь последние встречи показали мне его совсем неожиданно; я имел каждый день удовольствие слушать его: летом двадцать шестого года, он так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что, Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее; говорил - о фарфоре, о строчке, о смысле писательской деятельности, о законах материи, об электроне; его интересы - расширились; он перед смертью силился вобрать все в себя; и на все отзываться; Иванов-Разумник и я молча внимали тем «песням»: он казался в эти минуты мне седым соловьем; до 26 года я как бы вовсе не знал Сологуба.
Он стал конкретней: в сорок три года казался развалиной; а став шестидесятипятилетним, - помолодел; порою мелькало в нем в эти дни что-то от мальчика, «Феди Тетерникова»; эдакой словесной прыти и непритязательной простоты я в нем и не подозревал; каждый день к пятичасовому чаю за столом у Иванова-Разумника вырастал старый астматик, несущий, как крест, свое тело больное; он журил нас и хмурился; потом теплел и добрел; на исходе четвертого часа словесных излияний уходил юношески взбодренный: собственным словом.
Он временно жил в Детском в те дни, у нас за стеною; в пустующей квартире ему сняли комнату; он явился из Ленинграда: побыть в одиночестве, вздохнуть летним воздухом; бобыля привозили, устраивали на попечении Разумника Васильевича Иванова.
В четыре часа являлся пылающий чай, - в тихой квартирке Разумника; в окна глядела доцветавшая сирень; соловьи распевали в задумчивом парке, где тени - двух юношей: Пушкина, Дельвига. Тогда Разумник Васильевич начинал стучать в стену: и в ответ, - хлоп-хлоп: входная дверь: - «Это Федор Кузьмич!»
И шаги и запых: алебастровая голова лысой умницы, белой как лунь, в белом во всем, - появлялася к чаю; садясь за стакан, он хмурел и поохивал:
- «Тяжко дышать!»
Раздавались обидности, есть-де ослы, полагающие так и эдак: Разумник Васильевич, пыхтя, нос налево клонил; я, пыхтя, нос направо клонил, потому что известно, какие такие «ослы» (мы - ослы!).
Чай откушав, старик просветлялся; с растерянной, ставшей нежной улыбкой, сиял голубыми глазами на все и рассказывал, точно арабские сказки: о Патти, о жизни, о строчке стиха; так четыре часа он журкал каждый день; и, бывало, заслушаешься.
И я, его бегавший двадцатилетие, улыбался с утра; и думал:
«И сегодня явится сказочник, Федор Кузьмич!»
Раз почти прибежал, совершенно растерянный: - «Моя постель проломалась».
Пошли; и чинили пружину кровати ему; на этот раз, к своему удивлению, починил я, доселе умевший лишь портить металлические предметы; починивши ему постель, я, довольный собственной прытью, уселся перед ним, и он зачитал мне свои последние стихи, написанные в 24, 25 и 26 году; читал более часа.
Смерть приближалась к нему; он, не чувствуя смерти, помолодевший, с доброй улыбкой, которую я впервые увидел в нем, которой и не было на протяжении нашего двадцатилетнего знакомства, мягко меня выслушивал, без прежних придиров, заставляя читать ему стихи, читал свои; и вспоминал, вспоминал без конца свою молодость.
Через год и пять месяцев его не стало.
8. ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ К КНИГЕ
(51) Ср. воспоминания Белого о себе в пору 1897–1899 гг.: «…Фет заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром философии Шопенгауэра; он - шопенгауэровец; в нем для меня - гармоническое пересечение миросозерцания с мироощущением: в нечто третье» (Почему я стал символистом, с. 25).
(74) Ср. размышления на темы «раздвоя» в дневнике Эллиса (лето 1905 г.):
Внешний мир, т. е. все воплощенное, и деревья, и цветы, и сам я, телесный, - это отблеск иного, которое я духовный - люблю до экстаза.
Но познать сущность, познать то, к чему стремились каждый миг, невозможно иначе, как через среду, толщу реального. Отсюда раздвоение.
Я люблю мир, ибо он отблеск вечного.
Я не люблю его, ибо он отблеск вечного.
Проклятое раздвоение!
Тело = символ души.
(77) Этот разрыв был вызван тем, что Эллис выпустил в свет в издательстве «Мусагет» философский трактат «Vigilemus!» (М., 1914), содержащий критику идей Р. Штейнера. Белый, будучи тогда убежденнейшим штейнерианцем, протестовал против издания книги Эллиса, требовал сделать в ней ряд купюр (сохранилась корректура книги с правкой и вычеркиваниями Белого: ГБЛ, ф. 190, карт. 36, ед. хр. 4), но редактор «Мусагета» Э. К. Метнер сохранил текст в неприкосновенности. В архиве Метнера сосредоточены различные документы, характеризующие ход этого конфликта (ГБЛ, ф. 167, карт. 9, ед. хр. 8 - 11).
(97) А. И. Цветаева обстоятельно рассказывает об Эллисе в своих «Воспоминаниях» (М., 1983, с. 258–259, 283–289, 302–307). М. И. Цветаева изобразила Эллиса в поэме «Чародей» (1914) (Цветаева М. Неизданное. Стихи, театр, проза. Paris, 1976, с. 28–41); см. также письма М. И. Цветаевой к Эллису (Цветаева М. Неизданные письма. Paris, 1972, с. 9–20).
(112) А. С. Гончарова была племянницей Н. Н. Пушкиной (дочерью ее младшего брата С. Н. Гончарова). П. Н. Батюшков не был внуком К. Н. Батюшкова (у поэта не было потомства), а принадлежал к другой ветви рода Батюшковых, восходившей к прадеду поэта Андрею Ильичу Батюшкову (см.: Кошеле в Вяч. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987, с. 9).
(114) Гипатия упоминается как образ ученой женщины. Гарпии (греч. миф.) - архаические доолимпийские божества, изображаются в виде крылатых существ - полуженщин-полуптиц отвратительного вида.
(115) Подразумевается старшая из сестер Н. Н. Пушкиной Екатерина Николаевна Гончарова (1809–1843), с 10 января 1837 г. жена Ж.-К. Дантеса.
(132) Санкхъя, вайшешика - две из шести основных индуистских философских систем (даршан), признававших авторитет вед («астика»), оформившиеся к середине I тысячелетия; другие индуистские философские даршаны - йога, ньяя, миманса, веданта (см.: Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985, с. 529–533, 536–539). Крупнейшему индологу Ф. Максу Мюллеру принадлежит труд «Шесть систем индийской философии», вышедший в русском переводе (М., 1901).
(153) А. А. Тургенева; Белый сблизился с нею в 1910 г.
(159) Ср. дневниковую запись Э. К. Метнера от 16 сентября 1902 г.: «Бугаев - высокий тонкий 21-летний студент. Голова его построена очень хорошо; она свидетельствует о способности этого колоссального ума со временем уравновеситься, стать „белым“; голова эта, в которой затылок и лоб поражают взятые в отдельности, но гармонируют вместе, есть голова оптимиста, жизнерадостного олимпийца, поэта и философа в одно время. Мистицизм просвечивается лишь в глазах, в которых есть что-то волчье, хаотичное и нестерпимо сильное. Фигура - стройная, хотя недостаточно гибкая; движения порывисты и не лишены дикой грации. Бугаев - это для меня пробный камень русского человека. Если из него не выйдет чего-нибудь очень значительного, чего-нибудь более крупных размеров, нежели Влад. Соловьев, то я ставлю крест способностям русского человека. Так сильно, как он, никто из русских, кроме Пушкина и Лермонтова, не начинал. Его „Симфония“ - гениальна» (ГБЛ, ф. 167, карт. 23, ед. хр. 9, л. 55–55 об.).
(179) Окончательный разрыв отношений между Белым и Метнером произошел в марте 1915 г. в Дорнахе, в ходе разговора о делах издательства «Мусагет». Белый вспоминает:
Я сказал, что в инциденте со мной «Мусагет» был неправ; он - вспылил; тогда Ася спокойно повторила мои слова: «Да, все-таки „Мусагет“ был неправ». В ответ на это со стороны Метнера последовал взрыв дикого крика; он выскочил из нашего дома, не простившись <…> Несколько дней я ждал, что он пришлет извинительное письмо Асе; он его не прислал; тогда я послал ему короткую, но спокойную записку, в которой просил его не бывать у нас и не адресоваться ко мне письмами, пока он находится в состоянии, не могущем нас гарантировать от подобных вспышек. Так оборвались навсегда мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го)
(209) Ср. строки из поэмы Белого «Первое свидание» (1921):
Вот туалет Минангуа:
Одни сплошные валенсьены;
И - тонкий торс; и юбка «клошь» <…>;
авторское примечание к ним: «Модная московская портниха 90-х годов» (Стихотворения и поэмы, с. 427).
(222) В статье «Осип Дымов» К. И. Чуковский характеризует дарование этого писателя, используя цитату из Салтыкова-Щедрина: «Нынче даже в литературе пошли на Руси в ход экипажи извощичьи: „ваше сиятельство, прокачу!“ И вот вы мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец-лихач, ни обо что не зацепится, держит в руках вожжи бодро и самоуверенно и примчит к вожделенной цели, так, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие; даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. <…> Писатели разделяются на талантливых и бездарных; Осип Дымов писатель талантливый, - а остальные его качества нужно отнести на счет его „седока“ и „заказчика“ - современного читателя» (Чуковский К. От Чехова до наших дней. Литературные портреты. Характеристики. Изд. 2-е, доп. СПб., 1908, с. 58).
(223) Nomina sunt odiosa (лат.) - имена ненавистны (употребляется в значении: об именах лучше умалчивать).
(226) Первые публикации стихотворений А. Блока появились весной 1903 г., однако в кругу Белого и С. М. Соловьева блоковские тексты получили распространение в автографах и списках с осени 1901 г. См.: Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока. - В кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 1, с. 222–248.
(229) Искаженно цитируется заключительная строфа стихотворения Брюсова «Одиночество» (1903) из его книги «Urbi et Orbi»; в оригинале:
И путник, посредине луга,
Кругом бросает тщетный взор:
Мы вечно, вечно в центре круга,
И вечно замкнут кругозор!
(Там же, с. 319.)
(14) В мотиве влюбленности «демократа» в «Сказку» отразилось чувство Белого к М. К. Морозовой. Белый вспоминает о марте 1901 г.: «…начинает все покрывать лейтмотив моей мистической любви к М. К. М.» (Материал к биографии, л. 17 об.).
(28) Личное знакомство Шмидт с Вл. Соловьевым состоялось в конце апреля 1900 г. во Владимире.
(33) С. М. Соловьев вспоминает: «Я лично хорошо знал А. Н. Шмидт. Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной и помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее „Третий Завет“ стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и каббалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни каббаллы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее» (Соловьев СМ. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977, с. 400–401).
(44) Всеволод Сергеевич Соловьев, старший брат Вл. С. и М. С. Соловьевых, был автором многочисленных исторических романов, в основном затрагивавших события, быт и нравы русского общества XVIII - начала XIX в.
(73) Ср. общую характеристику поэта в мемуарном очерке Белого «Валерий Брюсов»: «…в эпоху 1897–1900 годов он для нас, подростков, стоял непрочитанным знаком какого-то неизвестного будущего, открывателем неисследованных континентов культуры; в эпоху 1901–1904 годов для нас, юношей, он стоял во главе экспедиции, организованной для покорения неизведанных стран; в эпоху 1905–1908 годов он воистину был повелителем им уже завоеванных стран; он стоял перед нами едва ль не пределом художественных достижений; и он нас учил» (Россия, 1925, № 4(13), с. 263).
(94) В первоначальном варианте текста далее следовало:
унизить еще одного мастодонта; В. Брюсов, чарующий взглядом удавов, - больная игра перепуганного жизнью «Вали», равно не могущего видеть - своих бледных ног, своего монумента в «кружке»; и с болезнью, все тою же, строящего «монумент», чтоб, с него показав свои «бледные ноги», упасть и едва дотащиться к «заре», озарявшей седины «моржа» (так прозвали студисты его), перед смертью играющего… в «кошки-мышки»: с пленительной искренностью [Так он играл с молодежью на вечеринках в «Брюсовском институте слова»].
(108) Об этом эпизоде духовно-психологического противоборства Брюсова и Белого см.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 336–337 (там же воспроизведен рисунок Белого, на котором изображен Брюсов, стреляющий из лука); см. также выше, примеч. 81.
(110) К. Д. Бальмонт уехал из Москвы в Париж для дальнейшего следования в Мексику в конце января 1905 г. М. А. Волошин в дневниковой записи от 27 января 1905 г., посвященной проводам Бальмонта, передает слова Брюсова об этом событии, произнесенные на вокзале: «Сию минуту кончился целый период. Бальмонт десять лет полновластно царил в литературе, иногда капризно, но царил. Наши связи рвались постепенно и порвались уже совсем в эти последние месяцы, но теперь он сам отрекся от царства и положил конец… <…> Мы будем жить без него. И я думаю, что мы все видели его в последний раз. Он не вернется из Мексики или вернется совсем иным…» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 33–33 об.).
(126) В очерке «Валерий Брюсов» Белый пишет: «Никогда не забуду я первого разбора стихов моих Брюсовым; эти стихи уже были им приняты: но на конкретном разборе он явственно мне показал, что они еще - общее место, которое в будущем лишь наполнится поэтическим содержанием; вместе с тем: я от Брюсова вышел совсем не раздавленным; наоборот: охватила огромная радость познания; я понял впервые тогда, что собой представляет конкретный и грамотно сложенный стих; урок Брюсова не пропал; я впервые стал крепко работать над собственной формой <…>» (Россия, 1925, № 4(13), с. 278).
(130) В статье «Дебютанты» Брюсов писал о первой книге стихов В. Ф. Ходасевича «Молодость» (М., 1908): «Как дневник, как „исповедь одной души“, - его книжка имеет свою цену <…> Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами <…> Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Г. Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока. Стих г. Ходасевича - это средний, расхожий стих наших дней» (Весы, 1908, № 3, с. 79–80).
(143) В лекции, прочитанной в Петербурге 17 января 1909 г. в зале Тенишевского училища, и в статье «Настоящее и будущее русской литературы» Белый рассматривает Брюсова и Мережковского как воплощения «двух правд» русского символизма:
Мережковский весь в искании; между собой и народом ищет он чего-то третьего, соединяющего. Брюсов не ищет: он изучает форму; в этом его подлинная правда, святая правда, принятая с Запада.
Так символически ныне расколот в русской литературе между правдою личности, забронированной в форму, и правдой народной, забронированной в проповедь, - русский символизм, еще недавно единый;
Одна правда с Мережковским, от которого ныне протягивается линия к религиозному будущему народа.
А другая правда с Брюсовым.
Но обе позиции как-то обрываются: в одной нет уже слов, в другой - нет еще действия.
Мережковский - слишком ранний предтеча «дела», Брюсов - слишком поздний предтеча «слова»
(Белый Андрей. Луг зеленый, с. 89, 91).
(158) Этот эпизод отразился и в воспоминаниях В. Ф. Ходасевича: «Однажды в концерте <…> Н. Я. Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: „Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?“ - „Это мой папа“, - отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастия, которою он любил отвечать на неприятные вопросы» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 63).
(168) В целом весьма холодная по тону рецензия З. Н. Гиппиус на книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» была напечатана в 1904 г. в «Новом Пути» (№ 12, с. 271–280; подпись: X,). См.: Минц 3. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими. - В кн.: Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник, IV (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 535). Тарту, 1981, с. 148–149.
(205) Вероятно, подразумеваются слова Чехова в передаче Бунина: «Какие они декаденты! - говорил он. - Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать…» (Бунин И. А. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., 1967, с. 239).
(210) М. С. и О. М. Соловьевы умерли 16 января 1903 г. Ср. другой вариант воспоминаний Белого об этом событии:
М. С. - кончается; О. М. - удаляет Сережу из дому; днем я имею с ней разговор; она - вся дрожит, глаза - лихорадочно блестят; она умоляет меня не покидать в течение всей моей жизни Сережу, быть с ним; я не понимаю, какой ужасный намек заключается в этом ее обращении ко мне (выяснилось потом, что весь этот день она травила себя краской; и говорила со мной уже отравленная); вечер этого дня я тупо и безнадежно сижу у себя, ожидая всего худшего; в 3 часа ночи нас будят известием, что М. С. Соловьев - скончался, а О. М.: тотчас же застрелилась; меня зовут в квартиру Соловьевых (мама - в истерике: папа - утешает ее); в квартире Соловьевых я нахожу проф. П. С. Усова и В. С. Попову, совершенно растерянных; оба меня посылают к Рачинскому, занимающему ответственное место в губернском правлении, чтобы он повлиял на полицию затушевать самоубийство; в 4 часа ночи мы обсуждаем с Рачинским, что делать; в 5 возвращаюсь к Соловьевым; меня просят предупредить ничего не подозревающего Сережу о том, что произошло
(Материал к биографии, л. 33 об. - 34).
(211) Похороны М. С. и О. М. Соловьевых состоялись 18 января 1903 г. в Новодевичьем монастыре (см. заметку Брюсова «Похороны М. С. и О. М. Соловьевых» - Русский листок, 1903, № 19, 19 января). Белый посвятил «незабвенной памяти М. С. и О. М. Соловьевых» стихотворение «Могилу их украсили венками…», памяти М. С. Соловьева - стихотворение «Призыв» (см.: Стихотворения и поэмы, с. 136, 138).
(254) Эту попытку самоубийства Бальмонт совершил 13 марта 1890 г.; о ней он рассказал в автобиографическом рассказе «Воздушный путь», опубликованном в «Русской мысли» (1908, № 11). См.: Орлов Вл. Бальмонт. Жизнь и поэзия. - В кн.: Бальмонт К. Д. Стихотворения, с. 19.
(258) Об этом инциденте между Брюсовым и Бальмонтом сообщает в своем дневнике М. А. Волошин, записав 12 января 1912 г. рассказ Бальмонта:
Можно ли смыть обиду?.. Валерий сделал то же, что ты Гумилеву… Я почувствовал, что пол-лица омертвело… Я провел тридцать шесть часов в бреду. Я не мог его вызвать. У меня была клятва, данная еще юношей, перевести Шелли. Его жена ждала ребенка. Я пришел к нему и спросил: «Зачем ты это сделал?» Он стал на колени и целовал мои руки. Мы тогда с ним стали на ты. Нельзя было иначе. О, как это все было. Я приехал только что с Балтийского моря. Я только что кончил «Только Любовь». Это были самые ясные дни подъема. <…> Я утром ехал с Грифом (С. А. Соколов). Мы остановили автомобилиста, который раздавил мужика и хотел бежать с мужиком в колесе. Мы его схватили и предали полиции. Встретили Валерия. Он сказал, мотнувши головой: «Знаете ли, что автомобилям принадлежит будущее». Потом мы поехали на скачки. Играли. Я выигрывал. Но когда я играл вместе с Валерием, то проигрывал. Это меня раздражало. Я проиграл все, что выиграл. Мы поехали в ресторан: Гриф, Юргис, Валерий, Сережа Поляков. Мне хотелось заставить их чествовать себя. Но им этого не хотелось. Они стали играть в домино. «Оставьте игру, давайте разговаривать, а то я выкину за окно». Я взял в горсть костяшки и бросил за окно. Сер(ежа) Пол(яков) сейчас же сказал лакею: «Пойдите, там упало домино». Но он, конечно, ничего не нашел. Я что-то начал говорить Валерию: «Я не хочу, чтобы играли… я из-за Вас проигрывал на скачках… это шулерство»… Он ударил меня… Я спросил почти спокойно: «Что это значит?»
«Это значит, что Вы всем нам надоели», - и с перекошенным лицом пошел из залы…
Меня в тот вечер ждала Нин (а) Ив(ановна) (Петровская). Я не поехал к ней. Я поехал в публичный дом. Поднялся в отдельную комнату, разделся и лег с девушкой, как брат с сестрой; но когда она делала жест любви, то я отстранял ее рукой. Так я пролежал всю ночь и думал свои мысли. Потом ходил по улицам. Но не мог и пошел к Валер(ию). Они кончали обедать. Он встал сумрачный, и мы прошли в его комнату.
И когда он на коленях целовал мои руки и плакал скупыми слезами, мне лицо его казалось обезьяньим…
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 442, л. 52–53).
(269) Поступив в 1897 г. на юридический факультет Московского университета, Волошин был в феврале 1899 г. исключен за «агитацию» на год и выслан из Москвы; вторично был арестован и выслан из Москвы в начале сентября 1900 г. См.: Купченко Вл. Вольнолюбивая юность поэта. М. А. Волошин в студенческом движении. - Новый мир, 1980, № 12, с. 216–223.
(288) Первая жена Соколова - Н. И. Петровская (Соколова). Официально их развод был зарегистрирован в августе 1907 г.; в ноябре 1907 г. Соколов женился на Л. Д. Рындиной (см. дневник Л. Д. Рындиной - ЦГАЛИ, ф. 2074, оп. 1, ед. хр. 2).
(1) Мнемоника - искусство укрепления памяти; совокупность приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.
(39) Первые письма Блока к Белому (3 января 1903 г.) и Белого к Блоку (4 января 1903 г.), написанные до личного знакомства, были отправлены независимо друг от друга. См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция, вступительная статья и комментарии В. Н. Орлова. М., 1940, с. 3–8.
(48) Блок писал Белому 28 апреля 1903 г.: «Что скажете Вы на то, что я буду от всего сердца просить Вас быть шафером на свадьбе, и думаю, что у Невесты?» 9 мая Белый ответил благодарностью и согласием (там же, с. 30–31).
(52) См. письмо Блока к Белому от 1 августа 1903 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, с. 43–45). В позднейших «Комментариях к моей переписке с Блоком» Белый расценивает это письмо как «не ответ, а отход от ответа»: «Это - не ответ мне: не „гнозис“ гнозиса моего, не отрицание, но и не согласие. Молчание! „Приглашение“ в первых письмах; и „отступание“ от моего гнозиса теперь. Hesitation!» (Колебание! - фр.) Cahiers du Monde russe et sovietique, 1974, vol. XV, № 1–2, p. 101; публикация Жоржа Нива).
(97) Об осени 1903 г. Белый вспоминает: «…я в себе ощущал в то время потенции к творчеству „ритуала“, обряда; но мне нужен был помощник или, вернее говоря, помощница - sui generis гиерофантида; ее надо было найти; и соответственно подготовить; мне стало казаться, что такая родственная душа - есть: Нина Ивановна Петровская. Она с какой-то особою чуткостью относилась ко мне. Я часто к ней стал приходить; и - поучать ее»; «Моя тяга к Петровской окончательно определяется; она становится мне самым близким человеком, но я начинаю подозревать, что она в меня влюблена; я самое чувство влюбленности в меня стараюсь претворить в мистерию <…> я не знаю, что мне делать с Ниной Ивановной; вместе с тем: я ощущаю, что и она мне нравится как женщина; трудные отношения образуются между нами» (Материал к биографии, л. 41 об. - 42).
(98) Ср. характеристику психологического облика Петровской в мемуарном очерке Ходасевича о ней («Конец Ренаты»): «Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества - ничего. Искуснее и решительнее других создала она „поэму из своей жизни“»; «…лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все „переживания“ почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны»; «Жизнь свою она сразу захотела сыграть - ив этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства» (Ходасевич В. Ф. Некрополь, с. 9, 12, 13).
(100) Петровская покончила с собой в Париже, отравившись газом, в ночь на 23 февраля 1928 года. См. некролог, написанный, по всей вероятности, В. Ходасевичем (Дни, 1928, № 1340, 25 февраля).
(101) Эриннии (эвмениды; греч. миф.) - три богини мести (Алекто, Тисифона, Мегера).
(102) Отношениями с Н. И. Петровской, завязавшимися в 1904 г., непосредственно навеяны стихотворения разделов «На Сайме» и «Из ада изведенные» в книге Брюсова «Execpavoc;. Венок», вышедшей в свет в декабре 1905 г.
(103) Над романом «Огненный ангел» Брюсов работал с лета 1905 до лета 1908 г.; в письмах к Петровской (июль 1905 г.) он называл это произведение «Твой роман» (ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 12). Подробнее см.: Гречишкин С. С. Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный ангел». - Wiener slawistischer Almanach, 1978, Bd. 1, S. 79-107; Bd. 2, S. 73–96; Бенькович М. А. «Огненный ангел» Валерия Брюсова (этап интеллектуальной дуэли). - В кн.: Из истории русской литературы и литературной критики. Кишинев, 1984, с. 18–36.
(104) Белый намекает на изменение в характере своих отношений с Петровской, происшедшее в конце января - начале февраля 1904 г.:
…произошло то, что назревало уже в ряде месяцев, - мое падение с Ниной Ивановной; вместо грез о мистерии, братстве и сестринстве оказался просто роман. Я был в недоумении: более того, - я был ошеломлен; не могу сказать, что Нина Ивановна мне не нравилась; я ее любил братски; но глубокой, истинной любви к ней не чувствовал; мне было ясно, что все, происшедшее между нами, - есть с моей стороны дань чувственности. Вот почему роман с Ниной Ивановной я рассматриваю как падение; я видел, что у нее ко мне - глубокое чувство, у меня же - братское отношение преобладало; к нему примешалась чувственность; не сразу мне это стало ясно, поэтому не сразу все это я мог поставить на вид Нине Ивановне; чувствовалось - недоумение, вопрос; и главным образом - чувствовался срыв: я ведь так старался пояснить Нине Ивановне, что между нами - Христос; она - соглашалась; и - потом, вдруг, - „такое“. Мои порывания к мистерии, к „теургии“ потерпели поражение(Материал к биографии, л. 42 об. - 43).
(114) Начало этой «полосы» в отношениях с Брюсовым Белый относит к маю 1904 г.: «…в это время Н. И. начинает дружить с Брюсовым, который сильно в нее влюбляется» (Материал к биографии, л. 46).
(115) Цитата из стихотворения «Бальдеру Локи» (ноябрь 1904 г.) (Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1, с. 389). Стихотворение было послано Брюсовым Белому в пору их наиболее острого духовно-психологического противостояния. Сохранились несколько рисунков Белого, созданных под впечатлением этого послания (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, между с. 144–145, 176–177), на одном из них Брюсов обеими руками простирает стрелу к Белому, поднимающемуся из постели, к изображению Брюсова приписаны строки из «Бальдеру Локи»: «Вскрикнешь ты от жгучей боли, // Вдруг повергнутый во мглу»; подпись под рисунком: «Чем занимается [великий] чумоносный человек, когда остается один».
(116) В «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» (1921) Белый так характеризует общую тональность своих отношений с Брюсовым в 1904 г.: «…происходят мои очень частые встречи и разговоры с В. Я. Брюсовым, носящие характер той остроты и напряженности, какою отмечено в то время мое общение с ним, встречи, оставившие в душе не одну тяжелую рану. Стиль нашего умственного поединка с Брюсовым носил один характер - я утверждаю: „свет победит тьму“. В. Я. отвечает: „мрак победит свет, а вы погибнете“» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 293).
(117) В неотправленном письме к З. Н. Гиппиус (датированном «1907, Страстная неделя» - т. е. 16–22 апреля) Брюсов описывает этот же инцидент: «На лекции Б<ориса> Ник<олаевича> подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и спустила курок. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С. А. Соколов. - Ред.), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, - совсем как в лермонтовском „Фаталисте“. И, следовательно, без благодетельной случайности или воли божьей Вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма от Скорпиона, конверт с траурной каймой» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 694). Этот же случай описывает в своих мемуарах «Невозвратные дни» Л. Д. Рындина: «Роман Нины Петровской с Брюсовым становился с каждым днем трагичнее. На сцене появился алкоголь, морфий. Нина грозила самоубийством, просила ей достать револьвер. И как ни странно, Брюсов ей его подарил. Но она не застрелилась, а, поспорив о чем-то с Брюсовым в передней литературного кружка, выхватила револьвер из муфты, направила его на Брюсова и нажала курок. Но в спешке не отодвинула предохранитель, револьвер дал осечку. Стоявший с ней рядом Гриф выхватил из ее рук револьвер и спрятал его себе в карман. К счастью, никого постороннего в этот момент в передней не было. Потом этот маленький револьвер был долго у меня» (ЦГАЛИ, ф. 2074, оп. 2, ед. хр. 9, л. 11). Об этом же инциденте сообщает и В. Ходасевич в «Некрополе» (с. 19).
(118) Об осени 1904 г. Белый вспоминает: «…острейшие разговоры с Брюсовым, будто клещами впившегося в мой внутренний мир; меня осеняет вдруг мысль: состояние мрака, в котором я нахожусь, - гипноз; Брюсов меня гипнотизирует; всеми своими разговорами он меня поворачивает на мрак моей жизни» (Материал к биографии, л. 50).
(168) Пушкин и Н. Н. Гончарова венчались 18 февраля 1831 г. в церкви Большого Вознесения на Малой Никитской улице, рядом со Спиридоновкой.
(182) Неточные сведения. Первой женой Иванова была с 1886 г. Дарья Михайловна Дмитриевская; Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (в первом браке - Шварсалон) стала его второй женой. С нею Иванов познакомился и сблизился в 1893 г. во Флоренции, где она проводила лето с детьми (Иванов с женой и дочерью жил тогда в Риме). Развод Иванова с Дарьей Михайловной был оформлен в 1895 г., однако «муж Лидии отказал ей в разводе, и юридическое расторжение брака, в действительности давно не существовавшего, потребовало многих лет и сложнейших процедур. В ожидании возможности венчаться Вячеслав и Лидия должны были скрываться и прятать детей Лидии, которых отец их угрожал и пытался похитить. Началась пора скитаний. Странствовали они по Италии, Франции, Англии, Швейцарии; заезжали и на родину для свидания с родными, но на родину приезжали врозь и без детей» (Дешарт О. Введение. - В кн.: Иванов Вяч. Собр. соч., т. I. Брюссель, 1971, с. 30–31). Свадьба Иванова и Зиновьевой-Аннибал состоялась в 1899 г. в Ливорно в греческой церкви.
(227) Ср. строки из экспромта Белого «В альбом В. К. Ивановой»:
И Вячеслав уже в дремоте
Меланхолически вздохнет:
«Михаил Алексеич, спойте!..»
Рояль раскрыт: Кузмин поет.
(Стихотворения и поэмы, с. 467.)
(228) Ср. запись Белого о феврале 1912 г.: «Споры с Гумилевым и Кузминым об акмеизме (выдумываем с В. Ивановым Гумилеву „акмеизм-адамизм“)» (Ракурс к дневнику, л. 55 об.; ср.: Эпопея, IV, с. 160–161). В пользу того, что именно от него мог исходить термин «адамизм», говорит особая маргинальность в сознании Белого имени Адам: главный лирический герой «Кубка метелей» - Адам Петрович; Белому же принадлежит рассказ «Адам. Записки, найденные в сумасшедшем доме» (Весы, 1908, № 4). С. М. Городецкий в статье «Цех поэтов (К годовщине тифлисского „Цеха поэтов“)» вспоминает о создании новой поэтической школы: «Потребовалось имя. Имен предложено было два: акмэ (расцвет, вершина) и отсюда - акмеизм - мною и адамизм - от имени первого жизнерадостника, прародителя - Гумилевым. В первых манифестах оба названия фигурировали параллельно, потом критика и печать усилили первое, акмеизм» (Закавказское слово, 1919, № 76, 26 апреля). Документальные источники, однако, свидетельствуют, что термин «адамизм» муссировался именно Городецким; см.: Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме. - Russian literature, 1974, t. 7–8, p. 29–30.
(239) Критике спиритизма посвящено, в частности, письмо Белого Петровской от 21 июня 1904 г., в котором говорится: «…мистика не может согласиться с необходимостью внешних феноменов. Ни Христос, ни Будда, ни пророки не устраивали сеансов, а если и производили чудеса, то они имели явно преобразовательный смысл, т. е. были символами, а не феноменами <…> Важно, что чудеса-символы-галлюцинации происходили вдруг, без сеансов, без преднамеренности» (ГБЛ, ф. 25, карт. 30, ед. хр. 13).
(249) С. А. Кублицкая-Пиоттух, старшая сестра матери Блока, и ее сыновья Феликс Адамович и Андрей Адамович Кублицкие-Пиоттух. Феликс Адамович закончил в 1905 г. Училище правоведения (см. вступительную статью В. П. Енишерлова к письмам Блока к А. А., С. А. и Ф. А. Кублицким-Пиоттух в кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4. М., 1987, с. 339–348).
(11) Ср. навеянные общением с Фохтом строки из стихотворения «Мой друг» (1908) из книги «Урна»:
На робкий роковой вопрос
Ответствует философ этот,
Почесывая бледный нос,
Что истина, что правда… - метод.
(Стихотворения и поэмы, с. 304.)
(15) О признании Брюсовым своего «поражения» в духовно-психологическом поединке с Белым свидетельствует и его стихотворение «Бальдеру. II» (1 января 1905 г.), начинающееся строками: «Кто победил из нас, - не знаю!//Должно быть, ты, сын света, ты!» (Брюсов В. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта, большая серия). Л., 1961, с. 502). Брюсов не отослал Белому текста стихотворения и не опубликовал его; Белый, по всей вероятности, так и не узнал о его написании. Ср. слова Брюсова в передаче Волошина (дневниковая запись от 21 декабря 1904 г.): «Я написал Белому (Бальдур и Локэ), и он мне ответил. Такого тона у Белого еще не было. Он заговорил Архангелом» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 31 об.).
(54) Наиболее полно «весовские» псевдонимы раскрыты в статье. Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы». К истории издания. - В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 257–324. Белый в «Весах», помимо своего основного псевдонима и настоящей фамилии, подписывался по меньшей мере тринадцатью псевдонимами: Альфа, А. Б - ый, Бета, В. Быков, Гамма, Дельта, Зигмунд, Яновский, А. (вместе с Брюсовым), А. В., 2Б, Spiritus, Taciturno.
(135) Во второй половине 1904 г. приглашения приехать в Петербург исходили в основном от Мережковского. 10 сентября 1904 г. он писал Белому: «А Вы не соберетесь ли в Петербург. Соберитесь-ка, родной! Вы не можете себе представить, как это нам нужно. Если не у кого остановиться, то у нас, да нет, во всяком случае у нас!»; в письме от 6 октября он также звал Белого в Петербург: «Это нужно для всех нас, - необходимо. Будете жить у нас. Подумайте, какая будет радость!» (ГВЛ, ф. 25, карт 19, ед. хр. 9).
(188) Подразумевается, по всей вероятности, прежде всего эпизод исключения Розанова из петербургского Религиозно-философского общества 26 января 1914 г. (за печатные выступления в черносотенном духе, связанные с делом Бейлиса). Об этом см. в воспоминаниях Е. М. Тагер «Блок в 1915 году» (Александр Блок в воспоминаниях современников, т. 2, с. 102–105, 439–440).
(190) Розанов был постоянным сотрудником петербургской газеты «Новое время» - охранительно-консервативного органа, пользовавшегося в широких кругах интеллигенции одиозной репутацией.
(195) Сестра Сологуба Ольга Кузьминична Тетерникова скончалась в Райволе 28 июня 1907 г. от туберкулеза легких (см.: ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 66, л. 32). 8 июля 1907 г. Сологуб писал Брюсову в этой связи: «Смерть моей сестры для меня великая печаль, не хотящая знать утешения. Мы прожили всю жизнь вместе, дружно, и теперь я чувствую себя так, как будто все мои соответствия с внешним миром умерли <…>» (ГБЛ, ф. 386, карт. 103, ед. хр. 26).
(205) Ан. Н. Чеботаревская, страдая психастенией, 23 сентября 1921 г. бросилась в реку Ждановку с Тучкова моста; тело ее было извлечено и опознано лишь 2 мая 1922 г.
(206) Ал. Н. Чеботаревская бросилась в Москву-реку с Большого Каменного моста в феврале 1925 г., после похорон М. О. Гершензона.
(252) Ср. слова Белого в этом письме к Брюсову (19 февраля 1905 г.): «Ведь вы ругаете периодически всех. Вы и пишете нехорошие вещи про всех (про меня, например). Лично я относительно себя совершенно ничего не имею: вам так подходит. Я вас часто про себя называю - „ругателем“ - это одна из ваших черт. <…> Мережковские мне близки и дороги, и я очень близок к ним. Считаю нужным предупредить вас, Валерий Яковлевич, что впредь я буду считать ваши слова, подобные сказанным мне сегодня (по моему позволению), обидой себе» (Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов, с. 381).
(254) В письме от 21 февраля к Брюсову Белый, разъясняя смысл своего предыдущего послания («Все письмо написано не из желания вас обидеть, а из желания исполнить свой долг относительно людей, с которыми я связан теснейшими узами дружбы»), заключал: «Если вы человек честный, вы пойдете навстречу моему желанию прекратить возникшее недоразумение. В противном случае, конечно, я меняю тон моего отношения к вам» (там же, с. 382).
(255) См. письмо Брюсова к Белому от 22 февраля 1905 г. (там же, с. 383). Брюсов собирался описать в дневнике этот инцидент под заголовком «История моей дуэли с Белым» (ГБЛ, ф. 386, карт. 1, ед. хр. 16, л. 37), но этого намерения не осуществил. 1 апреля 1905 г. Белый сообщал Э. К. Метнеру: «…у меня с Брюсовым должна была быть эмпирическая, а не символическая дуэль, или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел „окончательно воплотиться“» (ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 44).
(258) Неточная цитата не из стихотворения Брюсова, а из ответного послания Белого «Встреча» (1909), опубликованного в его книге «Урна»; в оригинале у Белого:
На посох бедный, костяной
Ты обменял свой жезл змеиный.
(Стихотворения и поэмы, с. 285.)
Образы посоха и жезла восходят к посланию Брюсова «Андрею Белому»:
Тебе дарю я жезл змеиный,
Беру твой посох костяной.
(263) 8 декабря 1924 г., уже после кончины Брюсова, Белый писал Иванову-Разумнику: «Я очень благодарен Коктебелю хотя бы за то, что перед смертью Валерия Яковлевича с ним встретился и мирно прожил, можно сказать, под одним кровом 3 недели: мы примирились - без объяснений; и как бы простилися <…>» (ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 15).
(6) Имеются в виду начальные фразы статьи С. М. Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба с точки зрения мистического анархизма»: «Всякий поэт должен быть анархистом. Потому что как же иначе? <…> Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе? Неужели только то изображу, что вижу, слышу и осязаю?» (Факелы, кн. 2. СПб., 1907, с. 193). Г. В. Адамович, приводя эти слова и ошибочно приписывая их Г. Чулкову, замечает, что они когда-то рассмешили «пол-России» (Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой. - В кн.: Воздушные пути. Альманах V. Нью-Йорк, 1967, с. 100–101).
ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
Андрей Белый. НАЧАЛО ВЕКА (ОТРЫВКИ)
МЕРЕЖКОВСКИЙ И БРЮСОВ
С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года; с Мережковским — на другой же день. Совпадение встреч — жест; Брюсов меня волновал «только» литературно; а Мережковский — не только; анализ, произведенный Д. С. Мережковским образам Льва Толстого и Ф. Достоевского, выявил: оба они завершают-де собой мировую словесность:
«От слова — к действию, к преображению жизни, сознания!» По Мережковскому, Толстой ведает плоть; Достоевский же — дух; Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание; его ошибка: за поиском знания он убегает в мораль; Достоевский же не понимает, что дух обретается в теле, не в вырыве в небо; чиста-де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее; дух-де здоров в Достоевском, а он — эпилептик.
Литература в обоих есть выход из литературы; в обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского: выявить общину новых людей, превративших сознанье Толстого и Достоевского в творческий быт; эта община была бы третьим заветом, сливающим Новый и Ветхий.
— «Иль — мы, иль — никто!» — восклицал Мережковский, грозяся пожаром вселенной; ходил по Литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром; глотни — и заплавятся души, тела.
Мой отец, далеко отстоявший от прей, поднимаемых Розановым, Мережковским и Минским с епископами, видел в Д. С. Мережковском проблему романов его: т. е. — видел тенденцию правой культурной борьбы с заскорузлым церковным монашеством;
мы, изучавшие пристальней книги писателя, не ограничивались таким трезвым разглядом. И М. С. Соловьев полагал: Мережковский — радеющий хлыст, называющий пляс и, как знать, свальный грех свой огнем, от которого-де загорится вселенная.
Все то, что до нас доходило о деятельности религиозно-философских собраний, тогда начинавшихся в Питере, сосредоточивало интерес к Мережковскому.
Коль он зенит, то В. Брюсов — надир: «Только литература!» Но Брюсов вкладывал в «только» весь пыл проповедника; миф для него был лишь материалом к сочетанию слов: он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов Апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды; писал он:
И господа и дьявола
Хочу прославить я.
Прославить для Брюсова — вылепить в слове. Д. С. Мережковский мирился со всем, но не с этим; «народник», «марксист», ницшеанец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике; Брюсову ж не было места в ней; так что «декаденты», по Мережковскому, — валежник сухой; малой искры достаточно, чтобы они вспыхнули; они — трут, на который должна была пасть искра слов его; вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море: ему ли де не знать «декадентов», когда он и сам — декадент, победивший в себе «декадента».
Д. С. Мережковского не понимали в те годы широкие массы; его понимал Михаил, православный епископ; да мы, «декаденты», читали его. Брюсов, тонкий ценитель «словес», был в те дни почитателем этого стиля — «и только»: о всяком «не только!». Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал: исцеленье его Мережковским есть «стиль» Мережковского; Брюсов-стилист был не прочь исцелиться для... Гиппиус, чтобы отобрать в «Скорпион» цикл стихов у нее; он ковал ведь железо, пока горячо, для готовимого альманаха и для «Скорпиона»; точно торговец мехами, в Ирбит отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для «Скорпиона» стихи подцепить; подцепив, привозил, точно мех черно-бурой лисицы.
— «Привез...»
— «Стихи — дрянь; ну, а все-таки — Гиппиус... «Скорпиону» приходится денежно жаться... Они запросили... Ну что же, Баль-
монт даст задаром, и кроме того: Юргис*, я, вы — напишем; не правда ли?»
Не раз меня Гиппиус спрашивала:
— «Платить будут? Коли платить будут, то — дам... Вы наверное знаете, — будут?»
Венец юмористики: Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова: в «завтра»; и даже — значенье расширенного «Скорпиона», который и им служил службу; они были гибкие в смысле устройства своих личных дел; так антидекадент и враг церкви печатался сам в «Скорпионе». Венец юмористики: когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме «беспринципного» Брюсова; он, кажется, прозаведовал... с месяц; и — бросил.
При встречах друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами:
— «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего!» — вопил Мережковский.
— «Прикажите, и — "Скорпион" к вашим услугам», — изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов. Заочно ругали друг друга:
— «"Новый путь", Борис Николаевич, заживо сгнил», — с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга: мне.
— «Зиночка сплетничает», — он докладывал.
— «Боря, как можете жить вы в Москве: "Скорпион" — дух тяжелый, купецкий. Как можете вы с этим Брюсовым ладить?» — кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус.
— «Боря, вам гибель в Москве!» — Мережковский. И я распинался:
— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я на Литейном.
— «Да вы не о том», — распинался с отчаяньем я в «Скорпионе».
Две эти фигуры, возникнувши в 1901 году предо мной, в те же дни, в декабре (один пятого, другой шестого), вдруг быстро приблизились, как бы хватая: Д. С. Мережковский за левую руку и Брюсов — за правую: Брюсов тащил меня в литературу: в «реакцию» по Мережковскому; а Мережковский — в коммуну свою:
— «Боря, бойтесь Валерия Брюсова и всей пошлятины духа его!»
* Ю. К. Балтрушайтис — в те годы «молодой» поэт «Скорпиона»
— «Зина думает...» — скалился Брюсов, глумяся над жалкостями беспринципных «пророков».
Как странно: тащивший «налево» Д. С. Мережковский пугался меня в девятьсот уже пятом как «левого»; «правый» же Брюсов стал не на словах, а на деле: действительно левым.
Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздваиваться меж Д. С. Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции, в идеологии; сложность ее — в иерархии граней; в одной допускались условно и временно ощупи Д. Мережковского; в другой же выметались проблемы формы по Брюсову; центр, ориентирующий обе эти проблемы, — та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, Канта.
И тут мне влетало от всех: студент Воронков, застревая в тенетах гносеологических терминов («апперцепция», «коррелат», «факт, идентичный идее»), махал лишь рукой:
— «Бугаев точно говорит по-китайски».
Заноза Петровский подтрунивал:
— «Знаете, философутики я не люблю», — уж и слово придумал!
Прималкивал скорбно М. С. Соловьев. Брюсов в первой же встрече воскликнул:
— «Зачем с философией вы, когда песни и пляски есть!»
Как впоследствии воспринимал Мережковский мои «коррелаты» — не знаю, потому что — молчал лишь: глазами похлопывая.
Блок — тот рисовал на меня безобидные карикатуры.
Не видели стержня теорий моих, моего устремления к «критицизму»; для Брюсова он — игра скепсиса; для Мережковского — моя тоска по действительности.
В. Брюсов играл в философские истины; и на «критические» рассужденья весело подсыпал он софизм; а Мережковский любил философствовать: не от меня — от себя, и тут делался Кифой Мокиевичем*; употребленье им терминов — просто юмора.
Брюсов и Д. Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка, центральная, моих теорий есть «муха», заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости; эту «муху» стирал Мережковский, старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни в их «общине»; Брюсов доказывал, что эта «муха» препятствует моим стихам.
* Кифа Мокиевич —гоголевский тип (см. «Мертвые души»).
Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года; к концу 908-го рвались нити, связывавшие с «общиной» Мережковского*, и рвались нити «Весов», иль культурного дела с В. Брюсовым; это я выразил в лекции «Настоящее и будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия с дней первых встреч: декабря этак пятого или седьмого; в той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом: у Брюсова и у Мережковского.
Оба — присутствовали на лекции: Мережковский вставал возражать; Брюсов, кажется, нет.
Семь лет ширились ножницы между обоими; силился согласовать себя: с тем и с другим; мои ножницы после сомкнулись: вне Брюсова, вне Мережковского.
ВСТРЕЧА С МЕРЕЖКОВСКИМ И ЗИНАИДОЙ ГИППИУС
Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку; читаю: «Придите: у нас Мережковские». Мережковский по вызову князя С. Н. Трубецкого читал реферат о Толстом; он явился с женой к Соловьевым: оформить знакомство, начавшееся перепиской.
Не без волнения я шел к Соловьевым; Мережковский — тогда был в зените: для некоторых он предстал русским Лютером**.
Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть «делом»; а в 1901 году после первых собраний религиозно-философского общества заговорили тревожно в церковных кругах: Мережковские потрясают-де устои церковности; обеспокоился Победоносцев; у Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском; находились общественники, с удовольствием потиравшие руки:
— «Да, реформации русской, по-видимому, не избежать».
В «Мире искусства», журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось: «Мережковские, Розанов». И в соловьевской квартире уже с год стоял гул: «Мережковские!» В наши дни невообразимо, как эта «синица» в потугах поджечь океан так могла волновать.
* Он хотел видеть общиной кружок «близких» ему литераторов.
** Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году.
Гиппиус, стихи которой я знал, представляла тоже большой интерес для меня; про нее передавали сплетни; она выступала на вечере, с кисейными крыльями, громко бросая с эстрады:
Мне нужно то, чего нет на свете.
И уже казалось иным: декадентка взболтнула устой православия; де синодальные старцы боятся ее; даже Победоносцев, летучая мышь, имел где-то свидания с ересиархами, чтоб образумить их.
В тесной передней встречаю О. М.; ее губы сурово зажаты; глаза — растаращены; мне показала рукою на дверь кабинета:
— «Идите!»
Взглянул вопросительно, но отмахнулася:
— «Нехорошо!»
И я понял: что в Соловьевой погиб ее «миф»: что-то было в лице, в опускании глаз, — в том, как, приподымая портьеру, юркнула в нее, точно ящерка; и я — за ней. Тут зажмурил глаза; из качалки — сверкало; З. Гиппиус точно оса в человеческий рост, коль не остов «пленительницы» (перо — Обри Бердслея); ком вспученных красных волос (коль распустит — до пят) укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико; пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз; перебирала граненые бусы, уставясь в меня, пятя пламень губы, осыпаяся пудрою; с лобика, точно сияющий глаз, свисал камень: на черной подвеске; с безгрудой груди тарахтел черный крест; и ударила блесками пряжка с ботиночки; нога на ногу; шлейф белого платья в обтяжку закинула; прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану.
Сатана же, Валерий Брюсов, всей позой рисунка, написанного Фелисьеном Ропсом, ей как бы выразил, что — ею пленился он.
И мелькнуло мне: «Ольга Михайловна: бедная!»
«Слона» — не увидел я; он — тут же сидел: в карих штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, карей бородкой, с пробором зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком вырезался человечек из серого кресла под ламповым, золотоватым лучом, прорезавшим кресло; меня поразил двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек; синодальный чиновник от миру неведомой церкви, на что-то обиженный; точно попал не туда, куда шел; и теперь вздувал вес себе; помесь дьячка с бюрократом; и вместе с тем — «бяшка». Это был Д. С. Мережковский!
И с ним стоял «черный дьявол», написанный Ропсом в сквозных золотых косяках, или — Брюсов; О. М., как монашенка, писанная кистью Греко, уставилась башенкой черных волос и болезненным блеском очей; сам голубоглазый хозяин, М. С. Соловьев, едва сохранял равновесие.
Я же нагнулся в лорнеточный блеск Зинаиды «Прекрасной» и взял пахнущую туберозою ручку под синими блесками спрятанных глаз; удлиненное личико, коль глядеть сбоку; и маленькое — с фасу: от вздерга под нос подбородка; совсем неправильный нос.
Мережковский подставил мне бело-зеленую щеку и пальчики; что-то в жесте было весьма оскорбительное для меня.
Я прошел в угол: сел в тень; и стал наблюдать.
Мережковский в ту пору еще не забыл статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства»; М. С., брат философа, чуялся ему — врагом; я как близкий дому Соловьевых, наверное — враг; вот он и хмурился. Гиппиус, оберегая достоинства мужа, дерзила всем своим вызывающим видом (а умела быть умницей и даже — «простой»).
Понесло чужим духом: зеленых туманов Невы; Петербург — хмурый сон.
Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших встреч и хмурым и мелочным.
Сколько усилий позднее я тратил понять сердца этих «не только» писателей! Буду ж подробно описывать, как и я уверовал в их головные сердца, как пускался слагать слово «вечность» из льдинок, отплясывая в петербургской пурге с Философовым Дмитрием и с Карташевым Антоном. Что общего? Семинарист, правовед и естественник, сын профессора!
Нет, я не помню решительно, о чем говорилось в тот вечер; бородка М. С. Соловьева высовывалась из тени и точно тщетно тщилась прожать разговор:
— «Не хотите ли чаю?»...
— «Нет», — нараспев, пятя талию, Гиппиус; ее крест на груди стрекотал; вот в нос В. Брюсову вылетел из губы ее синий дымок; она игнорировала тяжелое напряжение, потряхивая прической ярко-лисьего цвета.
А Брюсов ей славил и бога и дьявола!
С легкостью, уподобляясь прашинке, «знаменитый» писатель, слетевши с кресла, пройдясь по ковру, стал на ковре, заложивши ручонку за спину, и вдруг с грацией выгнулся: в сторону Гиппиус:
— «Зина, — картавым, раскатистым рыком, точно с эстрады в партере, — о, как я ненавижу!»
И из папиросного дыма лениво, врастяг раздалось:
— «Ну, уж я не поверю: кого можешь ты ненавидеть?»
— «О, — хлопнувши веком, точно над бездной партерных голов, — ненавижу его, Михаила!»
Викария*, оппонента религиозно-философских собраний.
Нет, почему «Михаил» этот выскочил здесь!
— «Я его ненавижу», — повторил Мережковский и выпучил темные, коричневатые губы; но блеск обведенных, зеленых, холодных, огромных пустых его глаз — не пугал: ведь Афанасий Иванович дразнился, откушавши рыжиков, перед Пульхерией Ивановной: саблю нацепит и в гусары пойдет.
О, синица не раз поджигала моря, закрывала даже Мариинский театр 9 января; и пугался: де полиция явится! Так же она одно время старалась в Париже привлечь к себе внимание Жореса**, пугаясь Жореса, привлекала к изданию сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан; въехала она благополучно в Россию и забрасывала правительство из окон квартиры на Сергиевской градом бомб, но — словесных.
— «Нет, вы — не общественник! А революция — есть ипостась».
— «Как, четвертая?»
От подлинной революции улепетнула: в Париж.
В тот же вечер, не зная синичьих свойств этих, и я содрогался рыканию: за... «Михаила» несчастного.
После дружили они...
Кто-то, помнится, тщился высказать что-то: про чьи-то стихи (чтобы — «ярость» погасла); став пасмурным «бяшкой», Мережковский похаживал по ковру, в карих штанишках, руки закинув за спину, как палка, прямой: двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек, пометался вдоль коврика из синей тени — на ламповый золотистый луч; и из луча — в тень, бросал блеск серых, огромных, но пустых своих глаз; вдруг он осклабился:
— «Розанов просто в восторге от песни». И — маленькой ножкой такт отбивая, прочел неожиданно он:
* Позднее Михаил, став епископом, дружил с Мережковским, порвал с православием и перешел в старообрядчество.
** Мне по странной случайности судьбы пришлось знакомить Мережковских с Жоресом. Это было в Париже: в 1907 году.
Фонарики-сударики горят себе, горят;
Что видели, что слышали — о том не говорят.
И на нас пометался глазами: «Что?.. Страшно?..»
И сел; и сидел, нам показывал коричневые губы: пугался фонариков!
Думалось: что это продувает его? И припомнились вновь сквозняки Петербурга, дым, изморозь, самые эти «фонарики»: из-за Невы; в рое чиновников тоже чиновник — от церковочки собственной. Победоносцев синода, в котором сидели: Философов, Антон Карташев, Тата, Ната и Зина, — таким был в действительности Мережковский.
— «Аскетом — веригами угомонить свои плоти пудовые, — свесилась слабая кисть, зажимавшая дамскими пальчиками темно-карее тело сигары с дымком сладковатым, как запах корицы, — плоть наша, — схватился за ручку от кресла, чтобы не взлететь в ветре голоса, — точно пушинки».
И стал арлекином, беззвучно хохочущим: видно, опять накатило.
— «Да тише ты, Дмитрий!»
Он тут же ослаб, ставши маленькой бяшкой.
Я же думал: «Какой неприятный!»
Мне все это — с места в карьер; и я обалдел от бессмысленных фраз (потому что даже не знал я начала беседы), от блеска лорнеточного Зинаиды Гиппиус, от растера хозяев, который во мне отозвался двояким растером: описываю так, как виделось, воспринималось; а виделось, воспринималось — абракадаброю.
Но тут Гиппиус, прерывая тяжкое сиденье, встала, моргая ресницами, желтыми, брысыми, личика точно кривого; за ней встал Мережковский,— удаленький и неприятный такой; очевидно, его «дьяволица»* водила на розовой ленточке при исполнении миссии очаровать сатану, чтобы в нужный миг он, спущенный с розовой ленточки, начал откалывать скоки и брыки в набитом «чертями» театре вселенной.
— «Пора и честь знать!»
Чета в сопровождении хозяйки — прошла в переднюю; черный дьявол, Валерий,— за ними.
М. С. Соловьев, нос повеся, в дымках нас оглядывал: с юмором вышмыгнула из передней О. М.; подняла на меня напряженные очи:
Губы дрожали.
* «Белая дьяволица» — выражение из романа Мережковского.
— «Сомнения нет никакого», — сказал Соловьев, стряхнув пепел в массивную пепельницу; и пошел открыть форточку: выветрить запах сигары.
ПРОФЕССОРА, ДЕКАДЕНТЫ
А на другой день Д. С. Мережковский читал в Психологическом обществе, в зале правления университета, которая окнами полуовальной стены закругляется на Моховую; в этой комнате я отсидел год назад реферат «Математика и научно-философское мировоззрение»; странно мне было увидеть в почтенном сем месте прически а-ля Боттичелли средь роя седин и мастито лоснящихся лысин; вот — старый Лопатин, Лев, князь Сергей Трубецкой; а вот — быстрый Рачинский, угрюмый Бугаев; вот — канцлер традиций, весь седенький: доктор Петровский; вот — окаменелость: профессор Огнев; как, как, — Иловайский? Матрона багровая загородила его: не уверен; и тут же — как странно их видеть: Сергей Поляков, Балтрушайтис и Брюсов; и юноши дерзкого вида средь тихих магистриков, просто студентов, при профессорах.
В. Я. Брюсов, взяв под руку, меня ведет к сестре своей, Надежде Яковлевне; она пырскает молодо глазом; маленькая, большелобая, сухо-живая; она — точно ящерка; рядом с нею я сел; она — шепчет мне:
— «Скажите, а кто этот свирепого вида профессор?»
— «Отец!»
— «Ах!» — сконфуженно вспыхивает.
Мой отец — оппонент неизменный — сутуло засел за свирепые торчи усов; и горбатою грудью сорочки отчаянно щелкает в споре, потявкивает, как большой цепной псище.
В дверях, — точно палочка: черная талия Зинаиды Гиппиус; сыплется в лысины острый лорнеточный блеск; обалдел входящий Мережковский, проваливаясь у нее за плечами и выглядывая из-за плечей и хлопая пусто-сквозными глазами; он ей — по плечо; князь Сергей Трубецкой приближается к ним; рядом с «крошкой»-писателем кажется как на ходулях: худой, сухой, длинный; с верблюжьей, протянутой шеей, ведет Мережковского; вот уже у стола они; вот Мережковский стоит под микиткой его, подпирая ручонку в бочок; Трубецкой, опустив волосатые длинные руки, с надменством согнулся под ухо; и что-то твердит, объясняя: он здесь председательствует; вот уж все сели; про-
фессора губами жуют, протягиваясь за бумагой, за карандашами; Лопатин пропятился из-за плеча под зеленым сукном, точно леший из чащи, мотаясь заранее злыми глазенками и выдаваясь губой,— красной, нижней: почти на вершок из усов; и над головой, точно скифское идолище, каменеет безруко профессор Огнев; что за достойная мумия, великолепная и седо-серая, выщербленная в спинке кресла? Владимир Иваныч Герье.
Но — звонок; Мережковский, посаженный в центр, ниже всех, как мертвец, потемневший от всосов почти до скул зарастающих щек, с перепугу картаво завякал коленчатою загогулиной фразы, составленной из друг друга пронизывающих придаточных лишь предложений, весьма нарумяненных и набеленных: кричащей метафорой; и даже я за него потрясен: можно ль, идя сюда, приготовить такую штуковину? Рукопись, верно, — для «Мира искусства»; расписанная киноварями риторических великолепий, пленила бы она «дидаскалоса» времен Юлиана отсутствием понятий; и — букетом метафор; одни импрессии: второе пришествие-де уже близко (у старцев подпрыгнули плечи, подпрыгнули даже очки на носах); наша интеллигенция-де своего «да» не имеет еще (старцы прянули стадом седастых козлов); «плоть»-де Толстого — свята («хе-хе-хе» — и шепот анекдотов про Софью Андреевну седыми усами под уши: друг другу); а бледный «барашек», глаза уронив в свою рукопись, бледно оскалясь с искусственным рыком, под «левика», чуть ли не плача, не может все кончить коленчатой фразы; наконец — кончил; и хлопает оком: на матрону багровую; эта матрона — опаснее мужа! Синклит закусивших губы строчит возраженья свои: «контрадикцио» или — «петицио»*; превосходен стиль реферата, но им красоваться в сем месте — Рафаэля подставить: под гиппопотамову морду; и — фырк; мне, ценителю стиля, и жутко и грустно: все ж — жалкая схемочка! И гимназист не осмелится: ей разразиться; и все мы — я, В. Брюсов, мадам Образцова, мясистая дама-модерн, в перерыве не говорим о случившемся.
Мережковский среди гробового молчания, отойдя к жене, лишь для вида — ручку свою под бочок: всеми брошенный, — силится он провеселеть; а кругом раздается:
— «Вы поняли?»
— «Я — ни слова!»
Сергей Трубецкой переносит головку над всеми сединами, ею вертя, как верблюд средь пустыни, ища оппонентов: их — нет;
* Термины логических ошибок.
И выпускают отца; он — смелее; не спец в философии он; он ценитель романов Д. С.; уцепившись за замечанье о том, что у интеллигенции есть только «нет », а не «да », прибодрясь, точно на коня, он сияет, рукой, головою показывая перед собою висящие в воздухе «да»: пункт, подпункт, — довод «а», довод «b», довод «с»; и окидывает нас довольными глазками; он — убедит Мережковского! Тот только хлопает оком, не слушая, видно, и не понимая: его нагота все ж любезно прикрыта отцом, ничего не понявшим; и вот Мережковский, осклабясь, рыкает отцу, отца не поняв: де отцу, убежденному позитивисту (вздор!), материалисту (вздор!), вовсе не виден мир нуменов (нумен — понятие; видеть нельзя его!); мой же отец, ничего не поняв в новой ерунде, где и Кант видит нумены, где и Молешотт смешан с Миллем, ему не перечит, поглаживая бороду и с любопытством разглядывая сей курьез, поднесший белиберду эту; совершив свою миссию, отец успокоился.
Далее — хуже: внезапно восстал над зеленым столом сам Владимир Иваныч Герье, как мертвец «Страшной мести» из гроба; брезгливый, прямой, оскорбленный и бледный — пускается плакать в свою седоватую бороду, перечисляя все промахи против истории в сей «меледе », именуемой странно — «Научный доклад»! Как Рамзес, из стеклянного гроба глядящий в Булакском музее, поплакав в свою седоватую бороду, он опускается в свой саркофаг: умирает на тризне печальной; вскочил, ставя руки костяшками длинных своих волосатых пальцев на стол, князь Сергей Трубецкой (силуэтом — верблюд, фасом — пес); начинает с картавым надменством, с убийственным, — с княжеским, — сухо цедить:
— «Вы сказали, а... сказано тут: между тем...»
Что «белиберда» — князь не сказал; но движенье плечей, поворот головы, то к Герье, то к Лопатину, явно кричали:
«Вы видите — что?»
И Лопатин, взусатясь, запрыгал овечьими глазками; и с перетером ручоночек, маленьких, точно у девочки, что-то рокочет; и бороду старого лешего тычет под чье-то ушное отверстие; и слышится:
Он, как мне потом передали, все кому-то шептал, тыча бороду в сторону Гиппиус:
— «Хо-хо... хорошенькая!..»
А выступать наотрез отказался: «князь» — малый ребенок, что выступил; старый леший Лопатин себя не унизит до спора; вместо него встал чернобородый какой-то; про что-то свое говорил.
— «Шарапов, Сергей!»
Издавал журнал «Пахарь»; последняя жердь от традиций Самарина.
Был-таки, был Иловайский, развалина дряхлая, или блондин в парике (кудерьками, колечками); он, говорят, щелкал только мазурками по паркетам в те годы, впав в детство, — на журфиксах своих, а не «Историями» — древней, средней и новой; и тоже престранный листок издавал: под названием «Кремль».
Писатель стоял, окруженный «своими», и хлопал глазами растерянно, отколовши скоки и брыки под черной вселенной Коперника,— не перед этими старцами; о, о, — багровые ужасы пучились в шеях багрового вида матрон; и как свеклы всходили у них на щеках; реферат — не провал, а — похуже; стилистически статья бы прекрасна была, — напечатай ее в декадентском журнале; только чтенье ее в университете — нелепость во всех отношениях; идя в это общество, он бы мог фиговый вывесить листик: понятие; хоть бы для виду прикрыл неприлично пропученную напоказ, налитую соками метафору; мог не читать — рассказать языком, всем понятным; читать же стилистику этого рода — романсик «Уймитесь, волнения страсти» пропеть, чтобы страсть разбудить в груди плаксы Герье, вынимая ее из постели повесткой: «Научный доклад!»
О, на вечер дуэтов (сопрано — Оленина-д"Альгейм, баритон — Мережковский) Герье бы охотно пошел; но не тащат д"Альгейм — в зал правления университета.
И было обидно.
— «Ведь вот недотяпа!»
И давнишнее неприятное впечатление от Мережковского, злого и хмурого, смылось другим:
«Прост до ужаса, коли полез, как куренок, во рты пожирал схоластических тонкостей!»
И пробудилась симпатия: сквозь антипатию.
Утром узнал продолжение вечера: от Соловьева, М. С.: «старцы», общий конфуз обсудив, порешили забыть реферат, чтобы
как романиста «honoris causa» Д. С. предложить в члены Общества; даже они — захотели: поужинать с ним.
Соловьев фыркнул в руки, — из тальмы:
— «Ну вечер же... Неописуемое... Вы и представить не можете; уж и не знаю, как вылетел с ужина я, не увидав конца!»
— «Что же было?»
М. С. принялся мне описывать в лицах: я передаю итог слов.
Были: князь Трубецкой, Лев Лопатин, Рачинский, отец, кто еще — не упомнил; Д. С. Мережковский с своей стороны пригласил: В. Я. Брюсова и «скорпионов»; на ужин явился поклонник писателя, Скрябин; едва они сели за стол, начались инциденты: сперва — с Трубецким; он, сев рядом с писателем, со снисходительно-непереносным, сухим любопытством пустился ощупывать «зверя», и — слышалось:
— «Вы говогите, а...»
Д. Мережковский, «простая душа», тут же пойманный в сеть паука философского, мухой подергавшись, — бацнул в лицо Трубецкому, доверчиво склабясь, как будто ему собираясь поведать приятную новость:
— «Вам, как человеку вчерашнего дня, не дано понимать это!»
— «Как?.. Но позвольте, — пришел в ярость "князь", — на каком основании? Мы одного ж поколенья с вами!»
Д. С., вдруг рассклабясь, резиновою дугою на Брюсова, руки бросая к нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, взвеваемой в воздух, забыв, что в его ж построении Брюсов — труха, им сжигаемая для пожара вселенной, с восторгом прорявкал:
— «Вот, вот — кто о будущем!»
Сказано; с воплем поставлено старцам под нос: старцы побагровели, а «князь» стал зеленый, увидев не фигу под носом своим — декадента: с таким мефистофельским профилем!
Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство — проверь.
Мертвеца изнасиловав (таков сюжет стихотворения), сел, с невиннейшим видом потупив глаза.
Чувство, всех задушившее, — было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как паром, пускаемым паровиком на дрожащий, взволнованный стол:
— «Он — бездарность махровая!»
Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца:
— «За такие деяния — знаете что? Да — Сибирь-с!»
В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он — стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову — с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову — с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздовольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк — за хорошенькой горничной.
Вечер — разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.
Числа эдак девятого я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус; и — поразился иной ее статью; она, точно чувствуя, что не понравилась, с женским инстинктом понравиться, переродилась; и думал:
«Простая, немного шутливая умница; где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу?»
Посетительница, в черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткой), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто; и розовый цвет лица, — не напудр, — выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться; и, вероятно в угоду хозяйке, была со мной ласкова; даже: держалась ровней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу; и теперь, «своих» встретив, делилась умом и живой наблюдательностью; такой стиль был больше к лицу ей, чем стиль «сатанессы ». Поздней, разглядевши З. Н., постоянно наталкивался на этот другой ее облик: облик робевшей гимназистки.
И Соловьева оттаяла; хмурь, — та, с которой молчала о Гиппиус, точно рассеялась; но вскоре — усилилась хмурь.
Я прочел поэтессе стихи А. А. Блока, еще неизвестного ей; З. Н. губы скривила, сказав что-то вроде:
— «Как можно увлечься таким декадентством? Писать так стихи — старомодно; туманы и прочая добролюбовщина * — давно изжиты».
На стихи Блока она реагировала совершенно обратно: через года три; и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, забраковавшим статью.
Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке**.
Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь — одна: как жизнь — одна!
В ее чтеньи звучала интимность; читала же — тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, — уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где — задумчиво, строго.
То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру, — но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет, — не пленяла; расположила же — розовая и робевшая «девочка ».
С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.
Я ПОЛОНЕН
Мережковские тут же уехали; у Соловьевых молчали о них; я считал себя в стане врагов их; но я отклонял обвиненья в раденьях.
И вот: сформулировав в тезисах свое «нет» Мережковскому, тезисы эти прочел Соловьевым; они согласилися с ними; тогда я
* Она разумела стихи Александра Добролюбова, декадента, ставшего главарем секты.
** Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще: был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли.
решил превратить их в письмо к Мережковскому: пусть он ответит: в печати; под ним подписался: «студент »; и — отправил.
Через несколько дней присылают за мной; лечу вниз, меня встретила Ольга Михайловна:
— «Письмо — от Гиппиус!»
Гиппиус просит О. М. раскрыть ей «псевдоним» — письма, ими полученного: моего: автор-де из кружка Соловьевых, — и, конечно же, «Боря Бугаев», ругающий-де их в Москве (Поликсена, наверно, насплетничала); письмо — первый-де ответ на вопрос, ими ставимый обществу: Д. С. — взволнован-де; Розанов-де счел письмо «гениальным»; они же не выскажутся: до свидания с автором; оно должно состояться на лекции: Д. С. читает в Москве; пусть же автор зайдет после лекции: в лекторскую.
Был я взволнован согласием на возраженье: в сущности, я написал на жаргоне тогдашних «Симфоний» моих, не подозревая, что именно этот жаргон и понравится, а возражение, написанное на «жаргоне», проглотится; так что: меня пугал разговор; Соловьева его представляла готовящимся ратоборством «Зигфрида» с ужасной змеей, в результате которого «Боренькой-Зигфридом» глава змеи — будет стерта; так кончится спор, начатый Соловьевым с Василием Розановым; Мережковский, иль — «детище» Розанова, будет-де «Борей», их «детищем», — бит.
В этой гипертрофии меня изживалась болезнь, подступающая уже к Ольге Михайловне; «Зигфридом» не ощущал я себя; Мережковского не ощущал я «змеей»; фальшивейшее положение не сознавалось Ольгой Михайловной, которая мое возражение поворачивала на возражение от... Владимира Соловьева; тут сказывалась меня все более мучившая, скажу прямо, неподготовленность Соловьевых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях; уже естественно-научные интересы находили мало в них отклика; скоро потом: выявленные несогласия с Соловьевыми и оговорки, делаемые Владимиру Соловьеву, воспринимали они как оговорки «от Мережковского»; и никто уже ничего не хотел понимать, когда я проповедовал четвероякий анализ явления, — каждого: как простой данности факта иль тезы, как выщепленного из него отвлечения или понятия, являющего с фактом двоицу, как идентичности факта — понятию, понятия факту (триадность) и как, наконец, проницания факта понятием, факт перестраивающим.
Я в первом разгляде выглядел студентом-естественником, не без тенденции к механицизму; во втором разгляде я определял себя как методолога-формалиста; в третьем приеме подхода к
фактам я выглядел для себя самого синтетиком, но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно; в четвертой и был символистом*.
Моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня, что я, разумеется, перенес ее и в химическую лабораторию, где работал я и два будущие «аргонавта». Петровский, Печковский и я, то и дело бросая приборы, друг к другу шли и, перекинув прожженные полотенца через плечо, обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому; удивлялся шнырявший Крапивин (вероятно, рос счет битых склянок); юморист же С. Л. Иванов являлся, болтая заткнутою пальцем колбою; и вдруг, отомкнувши ее, совал ее в нос мне:
— «Чем пахнет?»
— «Сероводородом».
— «Ага!» — угрожающе он говорил; и шел прочь. Этот жест предостережения значил: «Смотри — зарвешься»; но я, не внимая, кипел; опыт молодости и крик доказыванья, с резолюцией на него все равно чьей, — Мережковского, отца, Соловьевых, Петровского, С. Л. Иванова:
— «Мало понятно!»
Малопонятность — не только от перегруженности моего словаря терминами, но и от постоянного стремления, изучив технический жаргон того, что стояло в поле внимания, упражняться в нем, независимо от согласия или несогласия с мыслью; я устраивал семинарии по изучаемому предмету, выбирая слушателей, чтобы говорить не им, а себе самому.
Сознавал: происходит несносная путаница, в результате которой возникнет лишь большая: в случае близости, как и вражды с Мережковскими; это меня угнетало.
Доклад Мережковского, кажется «Гоголь», прочитан был им в феврале 902; я с чувством «быть худу» отправился на него с А. С. Петровским; Соловьева, взволнованная, прилетела в «Славянский базар» к Мережковским; присутствовавший при свидании Брюсов записывает, что «пришла... Соловьева»; «она была немного больна и напала на Дм. Серг. яростно: "Вы притворяетесь, что вам есть еще что-то сказать. Но вам сказать нечего. У кого действительно болит, тот не станет говорить так много"» **
Она, пригласив Мережковских, С. А. Полякова, Ю. К. Балтрушайтиса, Брюсова, — вдруг отменила свиданье, сказавшись
* Напоминаю: речь идет о прошлом, которому давность 31 год; я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона.
** Брюсов . Дневники. С. 118.
больной; это было — разрывом: с Мережковским; не высидев лекции, она — уехала; передавали, что Гиппиус, сидя лицом к многочисленной аудитории (амфитеатром), с ботинок сияющей пряжкой своею лучи наводила: на лбы и носы.
Мы с Петровским сидели в четвертом иль пятом ряду Исторического музея, волнуясь мне предстоящим заходом к Д. С. Мережковскому: в лекторскую; вижу: Брюсов ведет на меня невысокого, одутловатого, голубоглазого, бледного очень блондина, лет средних:
— «Борис Николаевич, — прошу покорнейше вечером, завтра — ко мне: Мережковские будут... Позвольте, — он мне показал на блондина, — редактор журнала "Новый путь" Петр Петрович...»
Блондин перебил его:
— «Перцов», — и руку мне подал с приветливо-добрым нахмуром, сказав глуховатым, невнятно лопочущим голосом:
— «Просьба к вам: вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому, — вашего, в нашем журнале... Об этом потом перемолвимся... Дмитрий Сергеич вас ждет: в перерыве...»
Петровский заметил ехидно:
— «Попались!»
— «Ох — в пятках душа!»
— «Коли груздем назвались, пожалуйте в кузов».
Я лекции так и не выслушал; сердце стучало: ну, как я войду, что скажу?
Перерыв: плески аплодисментов; и я потащился, как на эшафот, переталкиваясь средь плечей и локтей; еле лекторскую отыскал; стал под дверью, войти не решаясь; и ждал: кто пройдет, чтоб за ним проюркнуть; никого; наконец — я решился: толкнулся; дверь с легкостью необычайной распахнулась — в лоб Мережковскому.
— «Зина, вот он», — раздалось.
Мережковский сидел, очень маленький, ноги расставив, на стуле, платком отирая испарину, другую руку повесил на спинку; свисала изящная, маленькая кисть руки, точно дамская.
Перегибаясь вперед, точно жердь помавающая, ручку слабую не дотянул, не вставая со стула, — такой изможденный и точно расплавленный лекцией; множество мелких морщинок изрезали кожу лица.
— «Вы после лекции к нам заезжайте, в "Славянский базар"; будут наши друзья; о дальнейшем условимся; будете завтра у Брюсова?»
— «Буду».
Испуганно стал отговариваться:
— «Тут приятель мой...»
— «Вы приводите приятеля».
Бросив меня, Мережковский себя по коленке захлопал, уставился в Гиппиус; и ей кивком — на меня:
— «Зина, стыдно!.. Такой молодой он! А мы-то?»
Я же — стремглав: вон из лекторской.
— «Едете?» — я обратился к Петровскому, очень надеясь, что он не поедет (и — я).
— «Едем, едем!»
Предлог улизнуть — ускользал.
Вот и давка разъезда; Петровский, мой якорь спасения, — куда-то исчез; осенило:
«Не еду один!»
Подколесин сбежавший, — бежал разговора: ведь завтра же встречусь: на людях, у Брюсова!
А. С. Петровский, меня потерявши, поехал один; на другой день рассказывал об этом чае с каким-то Алехиным, бывшим сектантом: Д. С. с ним носился:
— «Жалели, что не было вас, удивлялись... Представьте-ка: Гиппиус мне протянула бокал, чтобы чокнуться: "За конец мира!" Ну, я ей ответил, что я отвергаю подобные тосты... И главное: я не взял денег, а подали счет».
— «Я занял у Брюсова».
Чувствовал, как поднимался во мне этот страх: разговор предстоял-таки: «Зигфрид», придуманный Ольгой Михайловной и аттестованный Розановым, ощутил себя «Боренькой» глупым.
И помню, как я должен был объяснить отцу, что у меня завязалось знакомство с Мережковским.
— «Я, Боренька, не понимаю, собственно говоря, — почему», — произнес он со страхом; и тут же себя оборвал и награнивал по столу пальцами:
— «Да-с... Писатель... Пишет... Ох-хо-с...»
И пошел от меня.
Со страхом отправился я к Брюсову.
Там произошел новый номер: Д. С. Мережковский — центр вечера; Брюсов и гости обстали его (из гостей помню Минцлову); он, ставши хмуриком, не отзывался; меня взявши под руку, к столу повел, рядом сел, не повертывая головы на меня; все исчезло — стол, Брюсов; в тумане — глаза из лорнетки: не Гиппиус — Минцловой! Влипла. Мы, сидя вполуоборот, глядя в пере-
сеченье прямых, произведенных от наших носов, ткнулись в точку расстеленной скатерти.
Д. С. забрасывал роем вопросов; и после молчал; формулировал мне он мои же вопросы, придав им свой стиль, свою лепку, в которой силен был; но кружево мыслей моих, в его новой редакции, огрубевая, рождало рельеф; так он, перелепив мой вопрос в свой фасон, подавал свой ответ: на фасон его собственный; мысль оставалась, но смысл в ней менялся; и я ему ставил вторично вопросы: по-моему, — не по-его: разговор протекал в специальном жаргоне, которым владел, проштудировав Розанова и раскрасив его моей палитрой схем, моих красочных уподоблений; Д. С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью, вздерг затылка, являющего продолженье спины, зализь жидкой прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперяяся в пересеченье перпендикуляров от наших носов — в кусок скатерти; точно играли в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода, обдумывая положенье: невидных фигурочек.
Так протекал разговор; он — единственный в своем роде; в нем Мережковский прослушал меня, поняв порами кожи, а не разуменьем, явивши искусство больших игроков, ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии, мне отвечающем: все возраженья мои — диалектика мысли, его же де!
Я еще не знал обычного его приема спорить: там именно, где вы с ним не согласны, он подменяет вопрос о согласии или несогласии вопросом о действии и созерцании:
— «Может быть, вы и правы, а мы не правы, но вы — в созерцании, а мы — убогие, слабые, хилые — в действии; вы — богаты, мы — бедны, вы — сильны, мы — слабы».
Стоишь оболваненный: слушаешь:
— «Но в немощи нашей создается наша сила; мы — вместе, а вы — одни, мы ничего не знаем, а вы все знаете, мы готовы даже отказаться от своих мыслей, а вы — непреклонны».
Сконфуженный, начинаешь отнекиваться:
— «Помилуйте, я и сам отнекиваюсь».
И тут, обойдя, поднимает он рык:
— «Так идите, учите нас».
— «Просто не знаешь, что делать, — юморизировал позднее Бердяев: — они обволакивают!»
Так и меня обволок-таки в тот незапамятный вечер. Да, да, — «партию» я проиграл: этот проигрыш — плен мой в годах; плен — в том, что я мог бы де их переучивать.
Было странно сиденье писателя маленького, с длинным носом, вперенного в скатерть, с юнцом, тоже в скатерть вперенным; сей стиль был несвойственен здесь; неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой; и неприлично юнцу непрославленному («Что ты, Боренька?») так отнимать «именитого» гостя у общества; я упустил простой факт, что я — притча уже «во языцех»:
— «Смотрите-ка: Брюсов ухаживает!»
— «Мережковский лишь с ним говорит!» Через два с половиной месяца вышла «Симфония», и объяснилося — все.
Разговор прервал Брюсов, косившийся явно; он высадил из разговора меня, подав хмурого гостя гостям; зачитали стихи: З. Н. Гиппиус и Балтрушайтис; прочел В. Я. Брюсов впервые:
И лестница все круче,
Все круче, круче всход!
Вот почему нам ночь страшна!
— «А?» — он рыканул, приглашая дивиться: осклабом лица.
Между прочим: хвалил стихи Брюсова.
Мы с ним условились: завтра приду я в «Славянский базар», чтобы договориться: втроем; для других они будут невидимы.
Не возвращался — летел как на крыльях, ликуя, что вышел союз с Мережковским, и не понимая, что партия — бита, что — мат и что — пленник на годы! Смущало: что скажет О. М.?
На другой день я к ней забегал; отправляла меня к Мережковским все с тем же упорством; зачем этот аллегорический меч?
Я же шел договариваться, а не биться.
Но точно меня опоясала им.
ХМУРЫЕ ЛЮДИ
Результат договора ударил как громом: О. М. бы сказала: «пакт с дьяволом!»
Комната в «Славянском базаре» — в кирпично-коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель — коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом — обой, пиджака, бороды и оберток томов; фон квартиры, что в доме Мурузи, — такой же; обои, и мебель, и шторы — вплоть до атмосферы, которую распространяла она; и та — коричневая; очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи, точно корицы, подобные запахам пряных бумажек; и припах корицы мне нос щекотал; я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу, поздней столь известную мне; атмосфера висела, как облако дыма курительного. Куда б ни являлись они, — возникала: в Петербурге, в «Славянском базаре», в Париже и в Суйде, где жили на даче они и где я у них был.
А на уличном свете она становилась точно туман, и лицо Мережковского казалось в тумане зеленым; вне дома, теряясь, терял он: подозревал, что шушукаются, что обстание всякое — враждебно ему; вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории, вдруг разоравшись; а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости; дома — он в туфельках шмякал; и, точно цветок на заре, раскрывался в курительном облаке, — под абажуриком; а вот выйдет, бывало, на Невский; смотришь — не тот: зеленее зеленого; глаза — в провалах; как тени от облака, злого, холодного,— перебегали по нем; в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась; делалась — золото-карей, немного пожухлой, немного потухшею.
Пахло корицами.
В гостях маленький, постно-сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз, — многим он напоминал проходимца.
И даже: казался он глуп.
Лишь в присутствии близких импрессия эта менялась: и то, что казалось извне подозрительным, выглядело как пленительное; Мережковский казался своим.
Отдались, — все менялось!
Поздней я не верил — ни в хмурь, ни в пленительность; морок пустой; глупо дуться на то, что из пальца, насыщенного электричеством, искрой уколет: булавок тут нет никаких!
«Электричество » — тот особый, пленяющий с непривычки «шарм», которым они обволакивали того, кто им вдруг начинал казаться нужным; и тут — невнимательные — они делались — само внимание; это внимание, соединение силы (муж, жена, Философов), — они направляли на старцев, дам, девочек, юношей и старушек; кого-кого в свое время не пленили они на час:
старика-миллионера Хлудова, Бердяева, Волжского, еще гимназисточку, Мариэтту Шагинян, Борю Бугаева, анархиста Александрова; ведь пленили же... Савинкова!
Многократно встречался с людьми, пережившими фазы колючек и шарма.
Д. С. и З. Н., точно круксовы трубки из хладных стекляшек, простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфоресцировать.
Мне Мережковский, пленяющий, напоминает портрет Леонардо осклабом смешков, пуком глаз, лаской жестов, каких-то двузначных, картавыми рыками; сидя в коричневом кресле, полуразвалясь на него, упав корпусом в локоть, как бы казался порой прозаренным лучами осеннего, мглистого солнца и белою женщиной с ярко-сапфировым глазом, метаемым как из-за красных лисичьих хвостов: волос; так чету Мережковских сработал бы, думаю я, Леонардо да Винчи, назвав свой портрет «Улов рыбы».
Опять-таки — Бердяев был прав:
— «Спорить нельзя: протестуете, — Дмитрий Сергеич зарыкает на вас: "Прекрасно, вы не критикуйте, а нам помогайте: вы — наш, а мы — ваши!" Оказываешься с своим "против" — внутри кружковой атмосферы их».
И это же высказал раз В. В. Розанов, зайдя в гостиную к ним:
— «У вас духом особым несет: что выделаете, оставаясь одни?»
Разумел — то же самое: стиль коллективного шарма, в который З. Н. приносила ум и хитрую ласку; Д. С. приносил свою хмурь, тень Рембрандта, напуг, выпук глаз, всосы щек, что-то постное в поступи.
«Рыбе», ловимой в сетях рыже-красных волос, из которых сиял этот «сестринский» вид, говорящий о том, «чего нет», — начинало казаться: в сетях атмосферы укрыто, что завтра откроется!
Не открывалось. Мелочные люди замыслили общину, в недрах которой зажжется огонь: всей вселенной!
Не вспыхивал!
И завлеченная «рыба»,— Антон Карташев, Философов,— за полным отсутствием дела «четой» отсылались в газеты: устраивать вспыхи бумаги.
Не вспыхивала публицистика слабая!..
Бедная Ольга Михайловна, перепугавшаяся там каких-то радений: пристойная община! Бедный Д. С., сколько шепотов он возбуждал! Не намерен его защищать: в светской жизни они были мелочны; лучшее приберегали для общины.
Участь «своих», посылаемых за неимением религиозного дела в газеты, — остаться в газете; и даже в газетной общественности: позабыть свою «миссию».
На атмосферу ловился и я с того мига, как дверь отворил в номер, занятый ими в «Славянском базаре»: в сквозном рыже-красном луче из окна, озарявшем коричнево-серое кресло и карюю пару писателя, маленького, раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картавое.
Пахло корицами.
Стиль всей беседы:
— «Вы — наши, мы — ваши!»
Расплыв черт лица, зараставшего почти до скул волосами, белейшие зубы, оскаленные из коричнево-красных разорванных губ, эти легкие, плавные, точно тигриные жесты, с которыми Д. С. усаживал, рядом садясь, — взволновали меня; в незакрытой двери — видел: Гиппиус тихо прошла белой талией, почти невидной в распущенных, золото-розовых космах: до пят; через пять минут вышла, сколов кое-как свои космы: дымок, восклицанья отрывистые:
— «Дмитрий, ты понимаешь его?»
После открылось уже, что сердца — в голове, что в груди вместо сердца — оскаленный череп, что в эти минуты они, как пылинки, — на ветре идей: ветер — северный, дующий с озера Ладожского, переверты пылей поднимающий; в выспри взлетев, остывали они столь же искренне, сколь закипали, чтоб жизнь прокрутить на холодных проспектах холодного города: преть, планы мыслить, — журналов, газет, — с Богучарскими, со Струве, Базаровыми, с Вильковысскими и даже... с Румановыми, точно с близкими; и рассыпать даже эти проекты: пылями проспектными.
Я же поверил, что я — полноправный, что я — нареченный Д. С. «младший брат », когда слушал:
— «Вы — близкий; мы вас оставляем здесь, как в стане врагов; верьте нам, не забудьте; не слушайте сплетен!»
В решительный миг под писателем кресло сломалось: он с креслом упал; поднимаясь, счищая с коленок соринки, осклабился, вспомнив, что так упал Розанов прямо под кафедрою Соловьева, читавшего «Три разговора».
Прощаясь, мы обнялись и условились: будем друг другу писать; я дал адрес химической лаборатории; было удобнее так.
Но, звонясь к Соловьевым (я дал обещанье О. М. рассказать о свидании), был не в себе еще, точно клочок атмосферы, как лег-
кий дымок папиросный, пристал к волосинкам тужурки, отвеиваясь и дымясь вокруг меня.
Дверь открыла О. М.:
— «Ну, — и что?»
Но, увидев меня улыбавшимся, только махнула; и — бросила:
— «Вижу: пропала Катюша!»
Какая такая?
Но, перевернувшись, О. М. пошла — прочь, ни о чем не спросив; я — поплелся домой.
ИЗ ТЕНИ В ТЕНЬ
Впечатлением от встречи с Мережковскими я ни с кем не делился, как тайной, и ждал их отклика из Петербурга;
и он появился; скоро швейцар мне подал в лабораторию темно-синий конверт; разрываю: в нем — красный конверт, его разрываю: в нем белый, с запискою, несколько слов: лишь — «ау» — в стан «врагов».
Началась оживленнейшая моя переписка с Зинаидою Гиппиус; изредка и Мережковский писал мне.
Оба звали меня в Петербург, но я не поехал уже: «Симфония» Андрея Белого вышла; я делал усилия, чтобы сохранить псевдоним; мать с отцом поехали в Питер: в конце апреля.
В начале мая вернувшись в Москву, мать спросила меня с удивлением:
— «Ты переписываешься с Мережковским? Зачем ты скрываешь?»
Кузен Арабажин, знакомый Барятинского, друг Яворской, сотрудник «Биржовки» и «Северного курьера», закрытого вскоре, явился к родителям и с удивлением им сообщил, что на днях, повстречавшись с Д. С. Мережковским, он слышал, как этот писатель хвалил в выражениях для Арабажина необъяснимых, — меня:
— «Понимаешь ли, дядя, — он читает вслух письма «Бориса» своим друзьям?»
Арабажин, поверхностный фельетонист, меня знавший как «Бореньку», спрашивал, в чем корень дружбы с «Борисом» салонных львов.
Мережковские портили мне разговоры с О. М.; я не мог уже слушать стиля ее рассуждений о Гиппиус; и мы прекратили бе-
седы на эти тяжелые для меня темы; в поджиме губы и во взгляде О. М. на меня установился между нами порог: до конца ее жизни.
И Брюсов весьма любопытничал. Весь тот период густо окрашен мне Мережковскими; куда ни придешь, — говорят о них; в лаборатории говорим о них; в студенческой чайной, бывало, соберемся: Петровский, Печковский, Владимиров, я, — тотчас же разговор поднимается о Мережковских: ведь тайну синих конвертов, подаваемых мне швейцаром лаборатории, мои друзья знали: бывало, Печковский спрашивает, взглянув на конверт:
— «От Гиппиус?»
С Гиппиус переписывались мы чуть ли не каждую неделю; а так как дома мать неизбежно спросила бы, кто это пишет мне (характерные очень конверты), то пришлось бы признаться, что я веду усиленную переписку с писателями, которые все же внушали тревогу отцу (боялся за сына); поэтому я и дал адрес лаборатории.
Брюсов тоже расспрашивал меня о Мережковских так, как будто я «спец» по ним; и делалось неприятно от этого назойливого любопытства; Мережковские ведь умели кружить головы людям; холодные «в себе», они могли казаться такими нежными; меня — захваливали они; я-де и замечательный, и новый; и «Симфония»-де моя — замечательная; было от чего потерять голову юноше, которого до сих пор жизнь держала скорее в черном теле.
Только О. М. Соловьева — мне ни звука о Мережковских; и вдруг:
— «Гиппиус — дьявол!»
И хотя я знал, что злость О. М. на Гиппиус — не идеология, а недомогание, я вскакивал и в совершенной ярости убегал. Через день О. М. присылала письмо: мириться.
Верен я был Михаилу Сергеевичу Соловьеву, когда я некогда встал: против Гиппиус и Мережковского; но, оставаясь верным своей переписке с З. Н., встал я самостно против О. М. Соловьевой; и это все выразилось: в автономно возникшей для меня квартире Владимировых, куда я стал чаще теперь убегать; и также — квартире Метнеров; на Соловьевых в одном (лишь в одном отношеньи) гляжу как на прошлое, уже законченное семилетие; во мне нудится новое, будущее именами, которые вместе — зенит и надир: Мережковские, Брюсов, уже обещающие мне блестящую литературную деятельность; Брюсов — толками о «Скорпионе», Д. С. Мережковский — зовами в проектируемый «Новый путь»; Брюсов мне в эти дни — новая литература; и — только; а путь с Мережковским — «не только» литература.
«Только», «не только» — Москва, Петербург: и восьмерки, мной писанные, семилетье меж ними есть ужас, мне еще не видный в 1902 году; отход огорченный без ссоры от Брюсова, от Мережковского кончился бегством моим из Москвы, Петербурга, России: на Запад.
Уже с 1902 года Брюсов втягивал меня в жизнь «скорпионовской» группы; З. Н. меж интимных строчек ознакомляла меня с петербургскою жизнью; весной сообщила, что был у них Блок и что он произвел впечатление (я ей завидовал); она звала меня в Петербург, чтобы я в настоящем общественном воздухе выветрил дух «Скорпиона» в себе (тут она сфантазировала: больше дух «анилина», которым несло в нашей лаборатории): не понимала она: «декаденты» — для меня лишь нота в октаве, лишь краска на спектре, октавой моею была не поэзия: была... культура!
З. Н. в письмах обещала меня познакомить не с «выродками», а с людьми «настоящими», «новыми»: думаю — с сестрами, Татой и Натой, с В. В. Розановым, с Философовым и с Карташевым; их друг, Философов, тогда раздваивался между «Миром искусства» и Мережковским, тащившим его в «Новый путь»: петербургская группа распалась на снобов художников и на писателей; в «Мире искусства» был дружеский отзыв о книге моей; скоро я стал сотрудником «Мира искусства»: вполне неожиданно.
Так было дело: открывалася выставка «Мира искусства» в Москве; посетитель всех выставок, был, разумеется, я и на выставке этой, пустой почти; тонные, с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах, меж полотнами Врубеля, Сомова, Бакста; все они были знакомы друг с другом; но я был чужой среди всех; выделялася великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева; я его по портрету узнал, по кокетливо взбитому коку волос с серебристою прядью на черной растительности и по розово, нагло безусому, сдобному, как испеченная булка, лицу, — очень «морде», готовой пленительно маслиться и остывать в ледяной, оскорбительной позе виконта: закидами кока окидывать вас сверху вниз, как соринку.
Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, пе-
редерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата): маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых. Что за жилет! Что за вязь и прокол изощренного галстука! Что за слепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К. Сомова, коль не артиста, прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!
Пока разглядывал я изощренную эту концовку, впечатанную Лансере в послезавтрашний титульный лист, — мне далекую и неприятную, вдруг осенило меня: предложить ей статью свою: «Формы искусства»; и вот безо всяких сомнений, забывши о том, что я — невзрачный студент, подхожу к кругло выточенному «царедворчеству» (избаловали меня: думал, — мне и законы не писаны!).
Вскид серебристого кока, и поза: Нерон в черном смокинге над пламенеющим Римом, а может быть, — камер-лакей, закрывающий дверь во дворец?
Тем не менее я представляюсь:
— «Бугаев».
И тут наглый зажим пухловатой губы, передернувшись, сразу исчез, чтобы выявить стиль «анфана», скорей пухлогубого и пухлощекого ангела (стиль Барромини, семнадцатый век); и с изящностью мима, меняющего свои роли, — изгиб с перегибом ноги назад, с легкой глиссадою, как реверанс, с улыбкою слишком простой, слишком дружеской, он, показав мне Нерона, потом — купидона, изящнейше сделал церемониймейстерский жест Луи Каторз :
— «Ах, я счастлив! На днях еще много о вас говорили мы!»
И, как по залам дворца, открывая жезлом апартаменты «Мира искусства», которого мебели — Бакст, Лансере, Философов, взяв под руку, вел к молодому и чернобородому «барину» в строгом пенсне, в сюртуке длиннополом.
— «Ну вот, Александр Николаевич, — позвольте представить вам Белого: он!»
— «Бенуа», — поклонился с отлетом, с расклоном, с изгибом руки Бенуа и повел под полотнище Врубеля: «Фауст и Маргарита».
— «Смотрите, — взмахнул он рукою, — вот титан! Я горюю, что не оценил его в своей «Истории живописи», — он посвящал меня в краски.
Так я был введен в круг сотрудников; и — озирались: кто этот прескромного вида юнец, кого Дягилев и Бенуа мило водят по залам.
Вопрос о статье не решался; была принята: с полуслова:
— «Конечно, конечно, — скорей высылайте, чтобы поспеть с номером!»
С тех пор я стал получать письма Д. Философова с чисто редакторскими замечаниями, с просьбою слать, что хочу; так факт дружбы с Д. С. Мережковским мне составил уж имя средь группы художников «Мира искусства». <...>
Примечания:
Главы из кн.: Белый А. Начало века. М.; 1990. С. 192—218 (также главы «Профессора, декаденты», «Я полонен», «Хмурые люди»).
С. 267. «От слова — к действию...» — пересказ заключительной мысли книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский».
С. 268. И господа и дьявола... — В. Я. Брюсов. З. Н. Гиппиус (1901).
Ирбит — город в Пермской губернии, известный проводившейся в нем с XVII в. одной из крупнейших ярмарок России, занимавшей второе место по объему торговых операций после Нижегородской.
С. 269. ...для заведования отделом иностранной политики — в 1903 г. Брюсов опубликовал в журнале «Новый путь» несколько своих статей о современной политике.
С. 273. ...статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в «Мире искусства» — очевидно, речь идет о статье Вл. С. Соловьева «Особое чествование Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 7), в которой содержится резкая критика пушкинского номера «Мира искусства» (1899. № 13—14), в том числе статей В. Розанова, Д. Мережковского, Н. Минского и Ф. Сологуба.
...слово «вечность» из льдинок — мотив из сказки Андерсена «Снежная королева» (рассказ седьмой).
С. 274. ...саблю нацепит и в гусары пойдет — имеется в виду повесть Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835).
...закрывала даже Мариинский театр — 9 января 1905 г. Мережковский был уполномочен собранием в Вольно-экономическом обществе сорвать вечернее представление в Мариинском театре Петербурга в знак протеста против расстрела демонстрации и траура по убитым на Дворцовой площади.
...сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан — имеется в виду сборник статей на французском языке «Царь и революция» (Париж, 1907), в котором приняли участие Мережковский, Гиппиус и Философов.
...из окон квартиры на Сергиевской — с 1913 г. Мережковские жили в ул., д. 83.
С. 275. Фонарики сударики горят себе, горят... — И. П. Мятлев. Фонарики (1841).
...Тата, Ната — младшие сестры З. Н. Гиппиус Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна Гиппиус.
С. 277. «дидискалос» — учитель, наставник (греч .).
С. 278. Булакский музей — музей египетских древностей в Каире, где хранится мумия фараона Рамзеса II. А. Белый побывал там в марте 1911г.
С. 279. «Пахарь» — иллюстрированный сельскохозяйственный ежемесячник, издававшийся в Москве в 1904—1906 гг. писателем С. Ф. Шараповым.
«Кремль» — политическая и литературная газета (с 1913 г. журнал-газета), издававшаяся в Москве с 1897 по 1917 г. историком Д. И. Иловайским.
«Уймитесь, волнения страсти» — романс М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова Н. В. Кукольника.
С. 280. Приходи путем знакомым... — В. Я. Брюсов. Призыв (1900). Опубликовано в «Золотом руне». 1906. № 1.
С. 282. ...через три года — рецензия З. Н. Гиппиус на «Стихи о Прекрасной Даме» А. Блока в журнале «Новый путь». 1904. № 12.
Единый раз вскипает пеной... — З. Гиппиус. (1896).
С. 283. ...письмо к Мережковскому — опубликовано в сокращении в «Новом пути» под заглавием «По поводу книги Д. С. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский"» (1903. № 1; подпись: Студент-естественник).
С. 284. Доклад Мережковского — доклад о Гоголе был прочитан в Историческом музее (Москва) 17 февраля 1902 г.
С. 286. Подколесин сбежавший — Н. В. Гоголь. Женитьба. II, 21.
С. 288. И лестница все круче... — В. Я. Брюсов. Лестница (1902).
Вот почему нам ночь страшна! — Ф. И. Тютчев. День и ночь (1839).
С. 289. ...где жили на даче они — летом 1908 г. Мережковские жили на даче в Суйде (южнее Гатчины), и в августе у них гостил А. Белый.
С. 291. ...так упал Розанов — история о том, как В. В. Розанов упал со стула во время лекции В. С. Соловьева описана в «Письме в редакцию» Розанова (Новое время. 1900. 29 февраля; подпись: Мнимо упавший со стула).
С. 292. «Биржовка» («Биржевые ведомости») — политическая и коммерческая газета, издававшаяся в Петербурге с 1880 по 1917 г.
«Северный курьер » — газета, выходившая в 1899—1900 гг. в Петербурге.
С. 294. Ты пойми: мы — ни здесь, ни — тут... — З. Гиппиус. (1906).
...выставка «Мира искусства» — открылась 15 ноября 1902 г. и продолжалась до 1 января 1903 г.
...я его по портрету узнал — портрет С. П. Дягилева работы Ф. А. Малявина (1902).
С. 295. «анфран » — дитя, ребенок (фр .).
Луи Каторз — Людовик XIV, король Франции.
С. 296. «История живописи » — книга А. Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке» (1902).
Начало века
Воспоминания в 3-х книгахКнига 2 СОДЕРЖАНИЕ
НАЧАЛО ВЕКА
От автора
Глава первая. "Аргонавты"
Год зорь
Кружок Владимировых
Весна
Студент Кобылинский
Эллис
Гончарова и Батюшков
Рыцарь Бедный
Мишенька Эртель
Великий лгун
Эмилий Метнер
Рачинский
Старый Арбат
Аргонавтизм
"Симфония"
В тенетах света
Лев Тихомиров
Валерий Брюсов
Знакомство с Брюсовым
Чудак, педагог, делец
Мережковский и Брюсов
Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус.
Профессора, декаденты
Я полонен
Хмурые люди
Из тени в тень
Смерть
Лавры и тени
"Литературно-художественный кружок"
Бальмонт
Волошин и Кречетов
Декаденты
Перед экзаменом
Глава третья. Разнобой
Экзамены
Смерть отца
Леонид Семенов
"Золото в лазури"
Переписка с Блоком
Кинематограф
"Аяксы"
"Орфей", изводящий из ада
Знакомство
За самоварчиком
"Аргонавты" и Блок
Ахинея
Брат
Старый друг
Сплошной "феоретик"
Вячеслав Иванов
Башенный житель
На перевальной черте
Шахматове
Тихая жизнь
Лапан и Пампан
Глава четвертая. Музей паноптикум
Снова студенчество
Тройка друзей
Павел Иванович Астров
Александр Добролюбов
Л. Н. Андреев
"Весы-Скорпион"
Д"Альгейм
Безумец
Муть
Исторический день
Мережковские
Карташев, Философов
Пирожков или Блок
В.В. Розанов
Федор Кузьмич Сологуб
Религиозные философы
Усмиренный
Москва
Отношения с Брюсовым
Оцепенение
^ ОТ АВТОРАЭти мемуары взывают к ряду оговорок, чтобы автор был правильно понят.
За истекшее тридцатилетие мы пережили глубокий сдвиг; такого не знала
история предшествующих столетий; современная молодежь развивается в
условиях, ничем не напоминающих условия, в которых воспитывался я и мои
сверстники; воспитание, образование, круг чтения, обстание, психология,
общественность, - все иное; мы не читали того, что читают теперь;
современной молодежи не нужно обременять себя тем, чем мы переобременяли
себя; даже поступки, кажущиеся дикими и предосудительными в наши дни,
котировались подчас как подвиг в мое время; и потому-то нельзя переводить
воспоминаний о далеком прошлом по прямому проводу на язык нашего времени;
именно в языке, в экспозиции, в характеристике роя лиц, мелькающих со
страниц этой книги, может произойти стык с современностью; я на него иду;
и - сознательно: моя задача не в том, чтоб написать книгу итогов, где каждое
явление названо своим именем, любой поступок оценен и учтен на весах
современности; то, что я показываю, нам и не близко, и не современно; но -
характеристично, симптоматично для первых годов начала века; я беру себя,
свое обстание, друзей, врагов так, как они выглядели молодому человеку с
неустановившимися критериями, выбивавшемуся вместе с друзьями из топившей
нас рутины.
Современная молодежь растет, развивается, мыслит, любит и ненавидит, не
чувствуя отрыва от коллективов, в которых она складывается; эти коллективы
идут в ногу с основными политическими, идеологическими устремлениями нашего
социалистического государства.
Независимая молодежь того социального строя, в котором рос я,
развивалась наперекор всему обстанию; прежде чем даже встретиться, чтобы
соединиться против господствующего штампа, каждый из нас выбарахтывался, как
умел; без поддержки государства, общества, наконец, семьи; в первых встречах
даже с единомышленниками уже чувствовалась разбитость, ободранность жизнью;
не знать счастливого детства, не иметь поддержки, утаивать даже в себе то,
что есть в тебе законный жест молодости, - как это далеко от нас!
Воспитанные в традициях жизни, которые претят, в условиях
антигигиеничных, без физкультуры, нормального отдыха, веселых песен,
товарищеской солидарности, не имея возможности отдаться тому, к чему тебя
влечет инстинкт здоровой природы, - мы начинали полукалеками жизнь; юноша в
двадцать лет был уже неврастеником, самопротиворечивым истериком или
безвольным ироником с разорванной душой; все не колеблющееся, не имеющее
противоречий, четко сформулированное, сильное не внутренней убежденностью, а
механическим давлением огромного коллективного пресса, - все это составляло
рутину, которую надо было взрывать скудными средствами субъективного
негодования и независимости; но и это негодование зачастую затаивалось,
чтобы не раздразнить блюстителей порядка и быта.
Режим самодержавия, православия и официальной народности охранялся
пушками и штыками, полицией и охранкой. Могла ли общественность развиваться
нормально? Общественные коллективы влачили жалкое существование, да и то
влачили его потому, что выявили безвольную неврастению под формой
либерального фразерства, которому - грош цена; почва, на которой они
развивались, была гнилая; протест против "дурного городового" использовался
кандидатами на "городового получше"; "городовой получше" - от капиталиста,
который должен был собой заменить "городового от царя"; "городовой от царя"
устарел; капитализм, добиваясь свободы для себя, избрал средства угнетения
посильней; пресс, более гнетущий, чем зуботычина, был одет в лайковую
перчатку конституционной лояльности; бессильные либеральные говорильни
выдавали себя за органы независимости; но они были и до свержения
самодержавия во власти "городового получше", который - похуже еще.
Наконец: и в гнилом государственном организме, и в
либерально-буржуазной интеллигенции сквозь все слои ощущался отвратительный,
пронизывающий припах мирового мещанства, .быт которого особенно упорен,
особенно трудно изменяем при всех политических переворотах.
"Городовой от царя" - давил тюремными стенами; либерал - давил фразами,
ореолом своей "светлой личности", которая чаще всего оказывалась "пустой
личностью" ; мещанин давил бытом, т. е. каждой минутой своего бытия.
Независимый ребенок, ощущающий фальшь тройного насилия, сперва уродовался
палочной субординацией (семейной, школьной, государственной); потом он
душевно опустошался в "пустой словесности"; наконец, он заражался инфекцией
мещанства, разлагавшего незаметно, но точно и прочно.
Таково - обстание, в котором находился ребенок интеллигентной семьи
средней руки еще до встречи с жизнью. Я воспитывался в сравнительно лучших
условиях; но и мне детство стоит, облитое соленой слезой; горькое, едкое
Каждый из друзей моей юности мог бы написать свою книгу "На рубеже".
Вспоминаю рассказы детства Л. Л. Кобылинского, А. С. Петровского и скольких
других: волосы встают дыбом!
Неудивительно, что, встретясь позднее друг с другом, мы и в линии общей
нашей борьбы с культурной рутиной не могли выявить в первых годах
самостоятельной жизни ничего, кроме противоречий; скажу более: ими и
гордилась часто молодежь моего времени, как боевыми ранами; ведь не было не
контуженного жизнью среди нас; тип раздвоенного чудака, субъективиста был
поэтому част среди лучших, наиболее нервных и чутких юношей моего времени;
теперь юноше нечего отстаивать себя; он мечтает о большем: об отстаивании
порабощенных всего мира.
В мое время - все общее, "нормальное", не субъективное, неудачливое шло
по линии наименьшего сопротивления: в моем кругу. И потому среди молодежи,
вышедшей из средне-высшей интеллигенции, "нормальна" была - разве опухоль
мещанского благополучия (один из "образованных" родителей моего друга для
здоровья давал сыну деньги, советуя ему посещать публичные дома); "здорова"
была главным образом тупость; "обща" была безответственная
умеренно-либеральная болтовня, в которой упражнялись и Ковалевские и...
Рябушинские; социальность означала чаще всего... покладистый нрав.
Иные из нас, задыхаясь во все заливающем мещанстве, в пику обстанию
аплодировали всему "ненормальному", "необщему", "болезненному", выявляя себя
и антисоциально; "чудак" был неизбежен в нашей среде; "чудачливостъ" была
контузией, полученной в детстве, и непроизвольным "мимикри": "чудаку"
позволено было то, что с "нормального" взыскивалось.
Меня спросят: почему же молодежь моего круга мало полнила кадры
революционной интеллигенции? Она отчасти и шла в революцию; не шли - те, кто
в силу условий развития оставались социально неграмотными; или те, кто с
юности ставили задачи, казавшиеся несовместимыми с активной революционной
борьбой; так, например, я: будучи социально неграмотен до 1905 года, уже с
1897 года поволил собственную систему философии; поскольку мне ставились
препоны к элементарному чтению намеченных книг, поскольку нельзя было и
заикнуться о желанном писательстве в нашем доме, все силы ушли на одоление
быта, который я зарисовал в книге "На рубеже двух столетий".
То же произошло с друзьями; мы, будучи в развитии, в образовании скорей
среди первых, чем средь последних, оставались долгое время в неведении
относительно причин нас истреблявшей заразы; из этого не вытекает, что мы
были хуже других; мы были - лучше многих из наших сверстников.
Но мы были "чудаки", раздвоенные, надорванные: жизнью до "жизни"; пусть
читатель не думает, что я выставляю "чудака" под диплом; - "чудак" в моем
описании - лишь жертва борьбы с условиями жизни; это тот, кто не так
боролся, не с того конца боролся, индивидуально боролся; и от этого вышел
особенно деформированным.
Изображая себя "чудаком", описывая непонятные для нашего времени
"шалости" (от "шалый") моих сверстников, я прошу читательскую молодежь
понять: речь идет о действительности, не имеющей ничего общего с нашим
временем, о действительности нашего былого подполья, наградившего нас
печатью субъективизма и анархизма: в ряде жизненных выявлений.
Я хочу, чтобы меня поняли: "чудак" в условиях современности -
отрицательный тип; "чудак" в условиях описываемой эпохи - инвалид,
заслуживающий уважительного внимания.
Странен для нашего времени образовательный стаж наиобразованнейших
людей моего времени; я рос в обстании профессоров, среди которых был ряд
имен европейской известности; с четырех лет я разбираюсь в гуле имен вокруг
меня: Дарвин, Геккель, Спенсер, Милль, Кант, Шопенгауэр, Вагнер, Вирхов,
Гельмгольц, Лагранж, Пуанкаре, Коперник и т. д. Не было одного имени -
Маркс. Всю юность видывал я экономиста Янжула; ребенком прислушивался к
словам Ковалевского; имена Милль, Спенсер, Дарвин слетали с их уст; имя
Маркса - нет; о Марксе, как позднее открылось, говаривал лишь Танеев (в
контексте с Фурье и Прудоном). Мой отец кроме тонкого знания математической
литературы был очень философски начитан; изучил Канта, Лейбница, Спинозу,
Лок-ка, Юма, Милля, Спенсера, Гегеля; все свободное время глотал он
трактаты, посвященные проблемам индивидуальной и социальной психологии:
читал Бена, Рише, Жане, Гербарта, Альфреда Фуллье, Тарда, Вундта, Гефдинга и
т. д.; но никогда им не были произнесены имена: Маркс, Энгельс; позднее я
раз спросил его что-то о Марксе; он отозвался со сдержанным уважением; и -
переменил разговор: видимо, он не прочел и строчки Маркса. Отец
Кобылинского, образованнейший, талантливый, независимый педагог2, глубоко
страдал, когда его сын отдался чтению Маркса; либеральнейший Стороженко
козырял и именами, сочинения которых не читал; за двадцать лет частого
сидения перед ним я не слышал от него только имени Маркса. Молчание походило
б на заговор, если бы не факт: никто из меня обставших ученых европейской
известности не прочел, очевидно, ни Маркса, ни Энгельса.
Так что - первый раз имя Маркса мне прозвучало в гимназии, когда один
шестиклассник в ответ на мои разглагольствования, в которых пестрели имена
Шопенгауэр, Кант, Льюис, Соловьев, мне противопоставил имена Струве,
Туган-Барановский, Маркс;3 казались смешными возражения "какого-то" Маркса;
возражал бы от Бюхнера и Молешотта, с учениями которых я был знаком по
брошюрам и главным образом по полемике с ними "Вопросов философии и
психологии"; а то - Маркс: "какой-то" Маркс!
Стыдно признаться: до 1902 года я не отличал утопического социализма от
научного марксизма; мой неинтерес к первому отодвигал Маркса от меня;
придвинули мне Маркса факты: рабочее движение в России; тогда впервые узнал
я о Ленине.
Это значило: я воспитывался в среде, где о Марксе (не говорю уж о
Ленине) не хотели знать.
Характеризуя себя и сверстников в первых годах самостоятельной жизни, я
должен сказать, что до окончания естественного факультета я не читал:
Маркса, Энгельса, Прудона, Фурье, Сен-Симона, энциклопедистов (Дидро,
Даламбера), Вольтера, Руссо, Герцена, Бакунина, Огюста Конта, Бюхнера,
Молешотта, стыжусь, - Чернышевского (?!), Ленина; не читал большинства
сочинений Гегеля, не читал Локка, Юма, очень многих эмпиристов XVIII и XIX
столетия; все это надо знать читателю, чтобы понимать меня в описываемом
отрезке лет (Юма, Локка, Маркса, Энгельса, Герцена, Конта, Гегеля я читал
потом). Что же я читал?
Лейбница, Канта, Шопенгауэра, Риля, Вундта, Гефдинга, Милля, Спенсера,
Владимира Соловьева, Гартмана, Ницше, Платона, "Опыты" Бэкона
(Веруламского), Оствальда, Гельмгольца, Уэвеля, ряд сочинений по философии
естествознания (между прочим, Дарвина), истории наук, истории философий,
истории культур, журнал "Вопросы философии и психологии"; я прочел множество
книг по психологии, переполнявших библиотеку отца, - книг, из которых
эстетических трактатов моего времени, путая их с трактатами прошлого: чтение
Белинского (в седьмом классе гимназии) шло вперебив с Рескиным, которым я
увлекался; чтение эстетических трактатов Шиллера шло вперебив с писанием
собственных юношеских "эстетик" (под влиянием эстетики Шопенгауэра)4.
Кругом чтения обусловлен комплекс цитат в статьях описываемого периода;
борясь с Кантом, что мог я противопоставить Канту? Желанье преодолеть
угнетавшую меня философию привело к ложному решению: преодолеть ее в
средствах неокантианской терминологии; тогдашние неокантианцы выдавали свою
"наукоподобную" теорию за научную (на ее "научность" ловились и физики); я
шел "преодолевать" Канта изучением методологий Риля, Рик-керта, Когена и
Наторпа, в надежде, что из перестановки их терминов и из ловления их в
противоречиях обнаружится брешь, в которую я пройду, освобождаясь от Канта;
я волил своей теории символизма и видел антикантианской ее; но я думал ее
построить на "анти" - вместо того, чтобы начать с формулировки основных
собственных тезисов.
Из "анти" не получилось системы, кроме конспекта к ней; и потому
символизм в моих познавательных экскурсах выглядел и шатко, и двойственно; и
выходило: "символ" - ни то ни это, ни пятое ни десятое. Что он - я не
сформулировал; сформулировал себе поздней, когда пропала охота писать
исследование.
Все это я должен заранее оговорить, чтобы в характеристике моих идейных
позиций не видели б перенесения их в "сегодня"; рисуемое мной -
характеристика далекого прошлого; и менее всего она есть желание выглядеть
победителем.
Но я не могу не дать в малой дозе и идейных силуэтов себя; без них
читателю было бы невдомек, чего ради бурлили мы, - пусть бурлили путано,
пусть напускали туман, но мы - бурлили; бурлил особенно я; и люди и факты
воспринимались в дымке идей; без нее мемуары мои - не мемуары; ссоры, дружбы
определяла она; и потому не могу без искажения прошлого ограничиться
зарисовкой носов, усов, бородавок, случайных жестов, случайных слов; мемуары
мои не сборник анекдотов; я, мемуарист, из мемуаров не выключаем; стало
быть, моя задача показать себя на этом отрезке лет объектом, а не только
субъектом: не награждать и карать, кичиться или себя бичевать призван я из
сознательной старости 1932 года, а рисовать образ молодого человека эпохи
1901 - 1905 годов в процессе восстания в нем идей и впечатлений от лиц, с
которыми он и позднее встречался, к которым он не раз менял отношения;
поздние признания и отрицания не должны накладывать печать на впечатления
первых встреч; многие из зарисованных лиц стали не теми, какими я их
показываю на отрезке времени; переменились - Эллис, В. Иванов, Мережковские,
Брюсов. Мережковский, еще в 1912 году кричавший, что царское правительство
надо морить, как тараканов... бомбами, где-то за рубежом кричит - о другом;
коммунист в последней жизненной пятилетке, Брюсов в описанную мною эпоху -
"дикий" индивидуалист, с наслаждением эпатирующий и буржуа и нас; конечно,
он не подобен Брюсову, которого мы видели в советской действительности; я
полагаю, что молодой, "дикий" Брюсов, писавший о "бледных ногах"5, Брюсов,
которого современная молодежь и не знала вовсе, Брюсов, который позднее с
правом бы на три четверти отказался от себя, должен быть зарисован таким,
каким он был, а не таким, каким стал впоследствии. Бальмонт, ставший
"эмигрантом" при царском режиме, - теперешний ли Бальмонт-"эмигрант"?6
Я рисую людей такими, какими они мне, да и себе, казались более чем
четверть века назад; было б бессмысленно подсочинять в стиле конечного их
развития начало пути их; это значит: сочинять факты, которые не имели места,
молчать о фактах, имевших место.
В основу этих воспоминаний кладу я сырье: факты, факты и факты; они
проверяемы; как мне утаить, например, что Брюсов ценил мои юношеские
литературные опыты, когда рецензии его обо мне, его записи в "Дневниках" -
подтверждают это? Как мне утаить факт его вызова меня на дуэль, когда письмо
с вызовом - достояние одного из архивов;7 оно всплывет - не сегодня, так
завтра; стало быть, - встанет вопрос, каковы причины нелепицы; серьезная
умница, Брюсов, вызвал на дуэль, когда предлог - пустяк; я вынужден был
осторожно, общо вскрыть подлинные причины пробежавшей между нами черной
кошки. В зарисовке натянутых отношений между мной и Брюсовым эпохи 1904 -
1905 годов я все же должен показать, что мы впоследствии ликвидировали
испорченные отношения. Вот почему, рисуя Брюсова не таким, каким он стал, а
таким, каким был, и подавая его сквозь призму юношеских восприятий, я
поневоле должен оговорить, что этот стиль отношений переменился в будущем;
было бы несправедливо заканчивать толстый том ферматой моего тогдашнего
отношения к Брюсову; тогдашнее отношение едва ли справедливо; Брюсов вызывал
меня на дуэль в феврале - марте 1905 года; воспоминания обрываются на весне
1905 года же. Не будучи уверен, что мне удастся написать второй и третий том
"Начала века", я вынужден к показу отношений 1905 года написать прибавочный
хвостик, резюмирующий итог отношений; ибо я храню уважение к этой
замечательной фигуре начала века; победил меня Брюсов поэт и "учитель".
Наоборот: рисуя дружбу свою с Мережковскими, я не могу победить в себе того
яркого протеста против недобрых себялюбцев, который отложился в итоге нашего
шестнадцатилетнего знакомства. При характеристике Вячеслава Иванова 1904
года я должен подать его сквозь призму позднейших наслоений вражды и дружбы;
иначе вырос бы не Вячеслав Иванов, - карикатура на него; он явился передо
мною в ту пору, когда личные переживания исказили мне восприятие его
сложного облика; попросту в 1904 году мне было "не до него"; отсюда: краткая
история наших позднейших отношений необходима при характеристике первой
встречи; если был бы я уверен, что напишу и последующие воспоминательные
тома, я бы не торопился с этой характеристикой; не было бы заскоков и в
будущее; заскоки - тогда, когда показанные личности на малом протяжении лет
восприняты превратно, несправедливо, когда выявления их передо мной не
характеристичны, мелки, а они заслуживают внимания.
Наоборот, лица, с которыми я ближе общался и относительно которых нет
аберрации восприятий в эпохе 1901 - 1904 годов, зарисованы так, как я их
видел в поданном отрезке времени.
Если бы я зарисовал свои отношения с Эллисом и Метнером эпохи 1913 -
1916 годов, я передавал бы вскрики боли и негодования, которые они вызывали
во мне; встали бы два "врага", под флагом былой дружбы всадившие мне нож в
сердце;8 но в рисуемую эпоху не вставало и тени будущих расхождений; и я
рисую их такими, какими они мне стояли тогда.
Труднее мне с зарисовкой Александра Блока; мало с кем была такая
путаница, как с ним; мало кто в конечном итоге так мне непонятен в иных
мотивах; еще и не время сказать все о нем; не во всем я разобрался; да и
люди, меж нами стоявшие, доселе здравствующие, препятствуют моим
высказываниям. Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так
ненавистен, как он: в другие периоды, лишь с 1910 года выровнялась
зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько
далековатую дружбу, ничем не омраченную. Я его ценил, как никого; временами
свидетельствует моя рецензия на его драмы, "Обломки миров", перепечатанная в
книге "Арабески"9. Блок мне причинил боль; он же не раз с горячностью
оказывал и братскую помощь. Многое было, одного не было - идиллии, не было
"Блок и Белый", как видят нас сквозь призму лет.
Из всех зарисованных силуэтов менее всего удовлетворяет Блок; рисуя
его, я не мог отделить юношеского восприятия от восприятия окончательного;
Александр Блок видится и в молодости сквозь призму третьего тома его стихов;
я же рисую время выхода первого тома; истерическая дружба с четою Блоков в
описываемый период, когда я был надорван и переутомлен, рисует меня не на
равных правах с ними; я их переоценивал, и я не мог обнаружить им узла
идейных недоумений, бременивших меня; "зажим" в усилиях быть открытым, - вот
что мутнило восприятие тогдашнего Блока; этот том обрывается У преддверия
драмы, которая отделяла меня от поэта весь период 1905 - 1908 годов. В июле
1905 года обнаружилась глубокая трещина между нами, ставшая в 1906 году
провалом, через который перекинули было мы мост; но он рухнул с начала 1908
года. Лишь в 1910 году изжилась эта трещина. Блок, поданный в этом томе,
овеян мне дымкой приближающейся к нам обоим вражды; ее не было в сознании;
она была - в подсознании; летнее посещение Шахматова в 1905 году - начало
временного разрыва с Блоком.
Еще одно недоразумение должно быть устранено при чтении этой книги; без
оговорки оно может превратно быть понято: условившись, что мои искания
тогдашнего времени, "макеты", которые мне приходится здесь в минимальной
дозе воспроизвести, рисуют меня пусть в путанице идей, но - идей, а не
только художественных переживаний; я рисую себя обуреваемым предвзятой
идеей, что я философ, миссия которого - обосновать художественные стремления
и кружка друзей, и тогдашних символистов; таким я видел себя; от этого мои
заходы в различные философские лагери, не имеющие отношения к литературе: в
целях учебы, а иногда и выяснения слабых сторон течений мысли, которые мне
казались особенно опасными для будущей теории символизма; заходы эти с
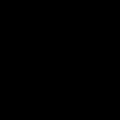 Ударение в английском языке
Ударение в английском языке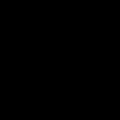 10 слов с ударением на 1 слог
10 слов с ударением на 1 слог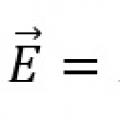 Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи
Закон Ома для замкнутой цепи и неоднородного участка цепи